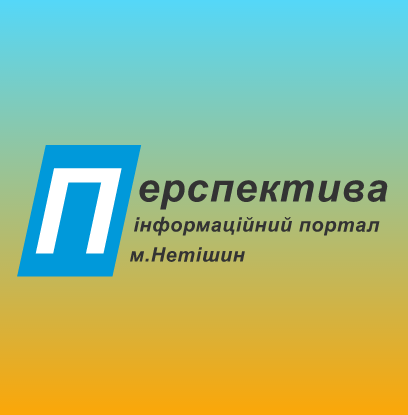Наше советское “всё”
(Русская литература ХХ века как единый текст)
Ирония в том, что, быть может, однажды именно нам придется спасать историческую память о сталинизме, когда страны Востока окончательно забудут о нем. Нам надо будет хранить в замороженном состоянии память о тиране, который сам замораживал ход истории, потому что эта эпоха обледенения также составляет часть всеобщего достояния ...
Жан Бодрийяр. “Прозрачность Зла” (1990)1.
Сегодня явно наступает время для того, чтобы взглянуть “без гнева и пристрастия” на культуру советской эпохи и увидеть в ней не одну лишь политическую демагогию и фальшь, не одни лишь конъюнктурные поделки и идеологические штампы — в соответствии с тем или иным ее “социальным заказом”. В советской эпохе были не одни лишь литературные и художественные однодневки, удел которых за пределами эпохи — немедленное, неотвратимое забвение, но и тот “сухой остаток” культурного наследия, который и в XXI веке, и в последующие нам неведомые столетия будет определять культурно-историческое значение советской литературы и искусства как таковых.
Я имею в виду не только исторические границы мира, в котором существовал Советский Союз и советский народ; в этом смысле к “советской литературе”, с некоторой долей условности, можно отнести не только Горького и Маяковского, Серафимовича и Демьяна Бедного, но и Пастернака, Гроссмана, Шаламова, Солженицына... Ведь они жили и работали в советское время, хотя во многом и вопреки ему, наперекор литературному и политическому официозу, конъюнктуре, моде, а значит, принадлежали именно этому времени, — хотели они того или не хотели. Последние были “советскими писателями поневоле”, и сама подневольность их советизма, как бы она ни была неприятна и отвратительна лично для них, тем не менее много говорила о советской литературе как таковой, включавшей атрибут “неволи” в свое содержание.
В данном же случае речь идет о том специфическом художественном содержании, которое, собственно, и делало целую эпоху советской, а представлявших ее художников делило на советских, то есть поддерживавших это качество в ней, и несоветских (в крайнем случае — антисоветских), то есть так или иначе этому качеству противодействовавших. С этой точки зрения следовало бы вычленять “советское” и “несоветское” начала в творчестве и сугубо советских писателей (тех же Горького и Маяковского в их послеоктябрьский период) и сугубо несоветских (тех же, например, Шаламова и Солженицына).
Нас интересует то художественное начало в советской литературе, которое составляет самую суть “советскости”, которое не имеет другого смысла ни в досоветскую, ни в постсоветскую эпохи, как свойство именно советской эпохи, только увиденное из прошлого или из будущего. Либо это предварение советской эпохи до Октября (какие-нибудь сочинения пролетарских поэтов и прозаиков “первой русской революции”); либо — послевкусие советского времени, ощущаемое до сих пор, через десятилетие после распада СССР и модификации КПСС, в произведениях писателей, начинавших как советские. Для своего анализа возьмем безусловных советских классиков, но во всем отличных друг от друга, даже противоположных (пусть это будут, с одной стороны, Н. Островский и А. Толстой, — с другой) и попытаемся прочесть их творчество заново, сегодняшними глазами, отбросив все предубеждения и стереотипы отдаленного или недавнего времени, как творчество советское по преимуществу. Очевидно, то общее, что удастся нам получить при анализе советской классики, и составит то, что можно было бы назвать “нашим советским всё”. По-видимому, выявится и то особенное, что окажется за пределами этого сакраментального “нашего всего” — либо не вполне “нашего” и “советского”, либо отнюдь не всеобщего и составляющего лишь индивидуальные черты того или иного художника.
Вспомним, как писал гениальный русский критик Аполлон Григорьев (исключительно чуткий к национальному менталитету) про “наше всё”. Назвав “нашим всем” Пушкина и тем самым представив его символом единства русской культуры, он разъяснял это парадоксальное определение таким образом: “...Пушкин — представитель всего нашего душевного, особенного, такого, что остается нашим душевным, особенным после всех столкновений с чужим, с другими мирами”. Далее он характеризует Пушкина как “единственный полный очерк нашей народной личности”, “принимающий в себя, при всевозможных столкновениях с другими особенностями и организмами, — все то, что принять следует, отбрасывающий все, что отбросить следует”. Наконец, обосновывая “всемирную отзывчивость” Пушкина — идею, позднее развитую Достоевским и Вл. Соловьевым, Ап. Григорьев подчеркнул, что в его “натуре, на все отозвавшейся, но отозвавшейся в меру русской души, — заключается оправдание и примирение для всех наших ... враждебно раздвоившихся сочувствий”2.
Итак, говоря о “нашем советском “всё” (по аналогии с “нашим русским всё”), мы имеем в виду такие черты советского менталитета, которые сохраняются как особенные при любых столкновениях и взаимодействиях с иными ментальными мирами (несоветскими) в результате отбрасывания всего “чужого” и принятия всего “своего”. Для советской культуры ее классического периода (сталинская эпоха) “чужим” было, во-первых, все досоветское; во-вторых, все антисоветское (в том числе эмигрантское и относящееся ко “внутренней эмиграции”); в-третьих, все размывающее специфику собственно “советского” и допускающее те или иные формы компромисса с “чужим”. Все, что поддерживало исключительное своеобразие и особость (новаторство) “советского”, признавалось “нашим”. Даже в том случае, когда собственные интенции “нашего” драматически остро раздваивались, раскалывались, размежевывались между собой (например, полемика М. Горького с Ф. Панферовым по поводу языка), та ментальная почва, на которой удавалось примирить и оправдать все эти интенции, позволяла культурно интегрировать различное как своего рода национальное всеединство.
Советский менталитет — это наднациональное, интеркультурное единство, но функционирует оно так же, как национальное, только очень большое, аморфное и абстрактное ( “советский народ” — именно такая абстракция искусственной нации, точнее — “всенации”). Несомненно, если глядеть на него “изнутри”, — это довольно пестрое и разнородное единство. Когда мы обращаемся к творчеству таких разных, а во многом и взаимоисключающих писателей, ставших столпами советской литературы и советского режима, как неграмотный самоучка-красноармеец Н. Островский и белоэмигрант-“возвращенец” граф А. Толстой, мы приближаемся к осмыслению этого “всеединства”. С разных сторон, так сказать, “стереоскопически” мы подходим к пониманию того, в чем состоит культурно-историческое значение и смысл советской литературы, в чем заключается специфика советского менталитета в его художественном выражении, какие разные стороны литературной эстетики и поэтические особенности объединялись под эгидой “советскости” и под покровом благоволения “отца народов”.
Настоящая статья является продолжением исследований автора на тему “Русская литература XX века как единый текст”3, а потому содержит в себе не только опыт культурологического анализа истории литературы завершившегося столетия, но и пафос теоретико-методологического поиска, как представляется, важного и для литературоведения, и для культурологии XXI века.
1. СВЯТОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
...Жить можно только идеей искаженной истины. Это единственный способ жить истиной. Иначе не вынести (потому именно, что истины не существует)... Жизнь Революции поддерживается только идеей о том, что ей противостоит все и вся, в особенности же ее пародийный сиамский двойник — сталинизм. Сталинизм бессмертен: его присутствие всегда будет необходимо, чтобы скрывать факт отсутствия Революции, истины Революции — тем самым он возрождает надежду на нее.
Жан Бодрийяр. “Соблазн” (1979)4.
Посетивший в 1936 году Советский Союз знаменитый французский писатель Андре Жид, будущий лауреат Нобелевской премии, встретился с Николаем Островским. В своем “Возвращении из СССР” он написал об этой встрече: “Я не могу говорить об Островском, не испытывая чувства глубочайшего уважения. Если бы мы были не в СССР, я бы сказал: “Это святой”. Религия не создала более прекрасного лица. Вот наглядное доказательство того, что святых рождает не только религия. Достаточно горячего убеждения, без надежды на будущее вознаграждение. Ничего, кроме удовлетворения от сознания выполненного сурового долга ... Лишенная контакта с внешним миром, приземленности, душа Островского словно развилась ввысь ... только энтузиазм поддерживает в ослабевшем теле это готовое вот-вот погаснуть пламя”5. Подобное признание писателя, наполнившего свой путевой дневник нескрываемым разочарованием в коммунизме, в советской пропаганде, в СССР, особенно впечатляет. Нет сомнения, восхищение Андре Жида Островским искренне, как и симпатия к его литературной деятельности, к его творчеству. Еще убедительнее его восприятие Островского в качестве советского святого — то ли нового Николая Угодника, то ли нового апостола Павла, гласящего: “Нет власти, аще от Бога”.
Творчество писателя Николая Островского, классика советской литературы, неотделимо от его жития как культовой фигуры советской власти, великомученика революции и гражданской войны. Формирование “святости” революционного героя было тесно связано со становлением его как пролетарского литератора и пропагандиста коммунистических идеалов, а литературная слава большевика была продолжением героической биографии революционного борца и была выражением и формой канонизации его “святости”. Подобно святому русского Раскола протопопу Аввакуму, при жизни писавшему свое мученическое житие как путь к обретению Царствия Небесного и вместе с его писанием действительно приближавшему свою страшную гибель, Островский создал свое жизнеописание под именем Павла Корчагина. Тем самым он навсегда вписал это имя в советские святцы, представив жизненный путь своего героя (и себя самого) как верный и даже “единственно возможный” (слова Корчагина в романе) — как образец жертвенного и самоотверженного прорыва в коммунизм наяву.
Отвечая А. Жиду и другим западным литераторам, советский писатель трагической судьбы Андрей Платонов возражал: “... на Западе Корчагин служит лишь предметом удивления, но, что крайне жалко, о нем там до сих пор не имеют истинного представления, там его считают исключительным явлением, вроде святого подвижника”. Истина, которую отстаивал А. Платонов, состояла в том, что “Павел Корчагин есть одна из наиболее удавшихся попыток (считая всю современную советскую литературу) обрести наконец того человека, который, будучи воспитан революцией, дал новое, высшее духовное качество поколению своего века и стал примером для подражания всей молодежи на своей родине. Ведь советская молодежь воспитывается тою же революцией, и поэтому она, советская молодежь и Корчагин — величины соизмеримые...”6. Платонов делал акцент на типичность, массовость, всеобщность, а не на исключительность Корчагина, на его высокую духовность и этику как на атрибуты советской повседневности, а не избранничества.
Очень хорошо это выразил А. Платонов, размышляя над смыслом романа “Как закалялась сталь” и его отличием, например, от творчества Пушкина (!): “Тогда, при Пушкине, шла предыстория человечества; всеобщего исторического смысла жизни не было в сознании людей, или он, этот смысл, смутно предчувствовался лишь немногими: “заря пленительного счастья” была еще далеко за краем земли... Целые страны и народы двигались во времени, точно в сумраке, механически, будто в сновидении, меняя свои поколения, переживая и трагические периоды и периоды относительного спокойствия, но ни разу вплоть до социалистической революции — не испытавши коренного изменения своей судьбы. Тогда, при Пушкине, еще не было взаимного ощущения человека человеком, столь связанных общей целью и общей судьбой, как теперь, — народ был еще слаб в сознании своего родства; и само это родство еще не было обосновано и освящено общим и единым смыслом, как ныне оно освящено смыслом создания социализма. Для истинно воодушевленной, для целесообразной жизни народа нужна еще особая организующая сила в виде идеи всемирного значения, способной отвечать сокровенному желанию большинства народа, чтобы вести народ в действие — на труд и на подвиг, чтобы наполнить его сердце удовлетворением собственного развития и победы”7.
Всеобщий исторический смысл, обретенный Н. Островским и его мыслящими современниками, заключался, по Платонову, во-первых, в том, что страна и народ испытали коренное изменение своей судьбы. Во-вторых, народ, связанный общей целью и судьбой в одно монолитное целое, начинает ощущать и сознавать свое органическое родство. В-третьих, это родство обосновано и освящено общим и единым смыслом — созданием социализма. Наконец, в-четвертых, целесообразность и воодушевленность всеобщему народному бытию придает организующая всемирная сила, овладевшая людьми и поведшая их на подвиг и труд, — идея пролетарской революции и коммунизма. Все это в сумме и составляет то новое, что выделяет Островского и его творчество изо всей предшествующей культуры, в том числе русской литературы. Впервые в отечественной и мировой литературе писатель наглядно отобразил в своем романе становление тоталитаризма не только в общественной практике и формах социального строя, но и в культуре, массовом сознании. Поэтому-то с таким восхищением, даже восторгом Платонов цитирует слова Островского: “счастье многогранно. В нашей стране и темная ночь может стать ярким солнечным утром. И я глубоко счастлив. Моя личная трагедия оттеснена изумительной, неповторимой радостью творчества и сознанием, что и твои руки кладут кирпичи для созидаемого нами прекрасного здания, имя которому — социализм”8.
Все эти слова об идеальной предопределенности и в то же время объективной недетерминированности счастья по своей сути очень близки знаменитому изречению, приписываемому Тертуллиану: “Верую, ибо абсурдно”. Особенно колоритно в этом суждении Островского превращение ночи в день и мрака в свет, построенное на неколебимом идейном убеждении, точнее, на слепой вере в идею, превращающую чудесным образом, подчас вопреки здравому смыслу и очевидности, черное в белое. Сила Островского — именно в этой его религиозной одержимости, в вере в чудо. Книга “Как закалялась сталь” наполнена чудесами, происходящими наяву: в ней совершается невозможное — преодолеваются непреодолимые препятствия, создаются нерукотворные объекты, побеждаются казавшиеся непобедимыми противники, выздоравливают безнадежно больные, воскресают по мановению слова умершие...
Борьба со своим физическим и психологическим состоянием, со своей умирающей жизненной оболочкой, со своими житейскими переживаниями и мыслями становилась для Островского делом ничуть не менее важным, нежели творчество: героизм Островского состоял в победе Идеи над природой, общественного над личным, долга над чувством, будущего над настоящим, закона над случайностью; этот героизм обретал классические формы, известные с античности и средневековья, и поневоле вызывал всеобщее восхищение и преклонение. Всей своей чудом продолжавшейся жизнью Островский словно преодолевал естественную необходимость смерти, подобно евангельскому: “смертию смерть поправ”. В этом отношении Островский представлял собой не столько литературный или чисто политический феномен, сколько феномен религиозный, точнее — неорелигиозный. Ведь и Островский, и его герой Корчагин были святыми новой формации и служителями революционного культа. И демонстрируемое им бессмертие есть лучшее доказательство плодотворности новой большевистской религии.
“...В наши решающие годы, — писал А. Платонов, — Корчагин есть доказательство, что жизнь неугасима, что заря прогресса человечества еще только занялась на небосклоне истории. Мы еще не знаем всего, что скрыто в нашем человеческом существе, и Корчагин открыл нам тайну нашей силы... Когда у Корчагина — Островского умерло почти все его тело, он не сдал своей жизни, — он превратил ее в счастливый дух и в действие литературного гения и остался работником, не поддавшись отчаянию гибели. И с “малым телом” оказалось можно исполнить большую жизнь. Ведь если нельзя жить своим телом, если оно разбито, изувечено борьбой за освобождение рабочего класса, то надо и оказалось, что — можно превратиться даже в дух, но жизни никогда не сдавать, иначе она достанется врагу”9.
Показательно, что и идеалы, и массы, и сама советская власть в 1930-е годы уже совершенно перестали быть революционными, хотя славословие революции не прекращалось; однако тоталитарное государство, крепшее год от года, нуждалось в трудовом и боевом энтузиазме своих граждан и их вере в неменьшей степени, чем молодая советская республика, оборонявшаяся от Белой армии и интервентов и неимоверными усилиями поднимавшая хозяйство из разрухи. Оно нуждалось в Островском и его романе, оно нуждалось в новом религиозном культе, частицей которого Островский вместе с его творением был; в культе, который сплотил бы людей фанатичной верой в лучшее будущее и повлек их в едином порыве на новые свершения, новые жертвы, новые подвиги. И оно, вечное и беспощадное Государство, как новый Христос, воззвав к умирающему, умершему, погребенному в своей постели рядовому своему бойцу: “Лазарь! иди вон” (Ин. 11: 43), — мобилизовало незрячих, убогих, расслабленных, немощных, прокаженных ради своей славы и величия. “И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами...” (Ин. 11: 44), и, воскреснув из мертвых, стал благовествовать во имя Государства, сначала отнявшего у него жизнь, а потом на время ему ее подарившего, и славил нового Бога, и ощущал себя его мессией.
Островский — при всей своей внешней исключительности — и в самом деле типическое, закономерное явление ранней советской эпохи, порожденное и сформированное советской властью и правящей коммунистической партией, включая “плановость” духовного производства, партийность поведения и мышления, утилитарность интеллектуальных и художественных усилий писателя, последовательную идеологическую заданность творчества, энтузиастическую самоотверженность личности перед лицом грандиозных всенародных и интернациональных революционных задач. Пожалуй, ни один иной советский писатель не понимал так буквально и серьезно своих религиозных сверхзадач, проповеднических и исповедальных целей, своей массово-гипнотической и магически преобразующей писательской миссии, как только еще собирающийся стать писателем Островский. Для него, неофита советской литературы, писательство было единственной, последней возможностью реализовать свою гражданскую “полезность”, выполнить свой сакральный — боевой, партийно-комсомольский и идеологический — долг.
Сегодня трудно и даже практически невозможно определить меру подлинного участия Островского в создании аутентичного текста “Как закалялась сталь”, как и личный вклад многочисленных создателей легендарного романа. Невозможно однозначно определить, улучшило или ухудшило романный текст компетентное вмешательство многочисленных редакторов в авторский замысел Островского на разных фазах его практического осуществления (видимо, исправляя текст в одном отношении, “соавторы” в каком-то другом отношении его искажали — прежде всего в угоду заданному идеологическому канону, предвзятой схеме). Ясно одно: без творческого участия самого Островского, без его художественного и публицистического переосмысления собственной личности и биографии (за него-то это никто не мог сделать!) было бы невозможно ни создание образа Павла Корчагина, ни всего знаменитого романа, ни сама его фантастическая популярность среди массы читателей. Какая бы сплоченная бригада профессиональных литераторов ни трудилась по материалам жития Николая Островского над созданием книги “Как закалялась сталь”, этого Нового Евангелия советской молодежи, она бы одна не добилась подобного успеха.
Однако совсем не случайны были колебания Островского в отношении своего произведения. На протяжении всей своей короткой творческой жизни он то резко подчеркивал автобиографичность главного героя и прототипичность своего повествования, фактическую точность и документальность описываемых людей, фактов, событий (Островский не только фиксировал точные даты и географические названия, но часто выводил персонажей под подлинными именами и фамилиями их прототипов; “руководило одно — не сказать неправды”, признавался писатель в интервью английскому журналисту С. Родману незадолго до смерти). То, напротив, он категорически отрицал “дневниковость” или “мемуарность” своего сочинения и говорил о художественных обобщениях, о роли вымысла, о творческом пересоздании фактов. В этом была своя правда, поскольку известно, что некоторые персонажи романа, например Рита Устинович, не имели реальных прототипов, а некоторые важные с сюжетной точки зрения подробности повествования, например встреча Павла Корчагина с Тоней Тумановой на строительстве узкоколейки и окончательный разрыв с ней, были рождены писательским воображением.
В этих метаниях — отражение внутренней драмы писателя. С одной стороны, наивное недоверие самому дневнику как жанру, требующему предельной честности и искренности (адресат дневника — не читающая публика, а сам автор; выставлять же себя напоказ — пошло). С другой — неспособность быть искренним перед собой до конца и отсутствие мужества доверить собственные чувства, в том числе интимные переживания, бумаге. Далее, необходимость писать дневник лишь своей рукой, а не рукой секретаря (что в случае с Островским невозможно практически, — это уже самооправдание). Наконец, скрытый разлад между внутренним и внешним миром, между сокровенным и общеобязательным, между действительным и должным, личным и общественным — конфликт, с трудом подозреваемый в “стальном” писателе-большевике. Получается, что признать “Как закалялась сталь” своего рода “дневником писателя” было невозможно, с одной стороны, по причине недостаточной откровенности автора, в то же время не терпящего фальши и осуждающего себя за неискренность; с другой — из-за невозможности писать дневник для печати и истории, поскольку это может придать неправомерный масштаб личности автора — рядового бойца и незаметного труженика.
Нравственный ригоризм и политическая скромность Островского не позволяли ему выпячивать свою личность и свой жизненный опыт, а потому и признать идентичность Павла Корчагина с собой. Островского более всего занимает в этом вопросе не теоретический, не творческий, не собственно художественный аспект, а почти исключительно идейно-политический. И с этой точки зрения ему кажется, что написать документальную автобиографию — поступок более ответственный и общественно-значительный, нежели написать художественное произведение. Для него литература была и оставалась более второстепенным занятием по сравнению с политикой, организационно-массовой или агитационно-пропагандистской работой, а потому могла иметь лишь прикладной смысл. Однако за два месяца до смерти, в беседе с корреспондентом газеты “Ньюс Кроникл” С. Родманом, Островский отверг все свои прежние признания, категорически утверждая, что “эта вещь автобиографична”, что “в книге дана правда без всяких отклонений”. Несомненно, полагаться на самого Островского в определении жанра и типа творчества, нашедших свое воплощение в “Как закалялась сталь”, было нельзя, — автор и сам толком не понимал, что и как он создал, да и он ли это написал: может быть, его пером водила Партия или сама История, сама Революция, а не одни лишь приставленные к нему литинструкторы и литинспекторы?
Колебания Островского по поводу его главного произведения — не то строго документального, не то художественно-беллетристического — можно понять. Более того, они закономерны. Книга “Как закалялась сталь” создавалась Островским — вкупе с сонмом приставленных к нему редакторов, контролеров, наставников (А. Караваева, М. Колосов, С. Остряков и др.) — в каком-то неуловимом смысловом “зазоре”. Это пространство между реальностъю строгих фактов и диктатурой идеологии, между живой непосредственностью личностных переживаний и нормативностью морального кодекса революционера, между документальностью повествования и фантазией художника, поднимающегося до эпохальных образов своего героического времени. Неповторимая “пограничность” произведения Островского (между литературой и жизнью, между политической идеологией и личной исповедью) создавала потрясающий эффект вовлеченности каждого потенциального современника — читателя книги — в открытое смысловое пространство произведения как свидетеля и участника свершающейся на его глазах объективной и субъективной истории.
Роман Островского “Как закалялась сталь”, будучи сгустком коллективного творчества и плодом индивидуальной воли неординарной личности, воплощал в себе типичную судьбу одного из “малых сих” и в то же время исключительность личного героизма. Обобщая будничную повседневность общего бытия и величие небывалого исторического перелома в жизни страны и мира, он оказался в начале 1930-х годов “открыт” в жизнь и воспринимался — и автором, и читателями — не столько как “литература”, сколько как миф — “общая судьба” всех и каждого. Роман был в некотором роде больше, чем жизнь, и потому быстро стал “учебником жизни”. Секрет же его заключался в том, что в нем, пожалуй, впервые столь удачно реализовался сталинский технократический проект литературы как “инженерии человеческих душ”. Роман Островского насквозь технологичен — и по тематике, и по способам воздействия на читателей, — ведь и “собран” он многими “спецами” как бы на заводском конвейере. Одни “блоки” в нем формируют в читателе коммунистическую веру и партийную соборность; другие — “святую ненависть” к врагам, эксплуататорам, попам; третьи куют боевой дух и трудовой энтузиазм; четвертые закаляют жесткий ригоризм и аскетизм целеустремленной натуры...
Вопреки очевидному техницизму А. Платонов назвал “Как закалялась сталь” в духе 30-х годов “простым и наиболее человечным романом нашего времени”. “Много есть в советской литературе произведений, написанных искуснее, но нет более отвечающего нужде народа, чем “Как закалялась сталь”. В этом романе обнаружился конечный результат долголетних, могучих усилий социалистической революции — новый, лучший человек: наиболее сложная и наиболее необходимая “продукция” советского народа, оправдывающая все его жертвы, всю его борьбу, труд и терпение. Ведь главное и высшее назначение советского народа как раз и заключается в том, чтобы рождать Корчагиных...”10. Не у одного Платонова было ощущение того, что Корчагин рожден не его романными родителями, не его автором — Островским, а самим советским народом, революцией, эпохой Октября. Его Рождество (“рождение в нем нового человека”, — говоря словами самого Корчагина) произошло в результате “непорочного зачатия”, — так сказать, Святым Духом.
Рождение Корчагина в романе связано с его бунтом против устоявшихся порядков, господствующей лжи, насилия, несправедливости, мракобесия и других пороков, в которых погрязла царская Россия. Новая, революционная “святость” возникает в борьбе с отжившими канонами, лицемерной, ханжеской моралью, антинаучными представлениями о мире, социальным неравенством и подобными атрибутами “старого мира”, освященными авторитетом вековой традиции. Новая вера, так сказать, отвоевывает свои позиции у “старой” лжерелигии, у дискредитировавшей себя “святости”, которую иллюстрирует отталкивающая личность тупого, злого и невежественного попа. Служитель культа старого мира, в духе множества плакатов и агиток 20-х годов, наивно и грубо отстаивавших “воинствующее безбожие”, рисуется у Островского воплощением зла, насилия, несправедливости, мракобесия, сил прошлого.
Позднее в романе оказывается, что во главе контрреволюционной организации в Шепетовке, готовившей восстание недобитых белых и петлюровцев против советской власти, стоял именно поп Василий, — и этот идеологически заданный финал был вполне предсказуем.
Идейный конфликт Павки с духовным защитником “старого мира” становится в романе актом символическим: Павка впервые освобождается от страха; Корчагин становится богоборцем и революционером. Ищущий правды, гонимый за нее, еретик, смело восстающий на фарисейские догмы, пророк новой веры, идущий тернистым путем испытаний, — отныне главный герой Островского вступает на путь непрерывного нравственного восхождения. Он понимает, что насилию нужно сопротивляться силой. Убеждения его крепнут, “святая ненависть” к богатым, к вековому укладу толкает подростка на социальную месть. Его суждения о жизни становятся все более жесткими и озлобленными. Тлеющее чувство протеста нуждалось в религиозном озарении, и вместе с опытом социальной борьбы пришла классовая, партийная вера. Неумолимость классовой вражды — это и есть сredo Корчагина как “человека будущего”, как провозвестника Нового мира.
Спрятавшийся от облавы апостол “нового мира” Федор Жухрай в течение восьми дней убедил Павла в своей правоте и окрестил его в свою политическую веру: “Говорил Жухрай ярко, четко, понятно, простым языком. У него не было ничего нерешенного. Матрос твердо знал свою дорогу, и Павел стал понимать, что весь этот клубок различных партий с красивыми названиями: социалисты-революционеры, социал-демократы, польская партия социалистов, — это злобные враги рабочих, и лишь одна революционная, непоколебимая, борющаяся против всех богатых — это партия большевиков”. Вот образец проповеди новоявленного Иоанна Предтечи: “Глядишь, бывало, на сытых да наряженных господских сыночков, и ненависть охватывает”.
С “заповедями” Жухрая, этим символом большевистской веры, Корчагин уже не расставался никогда. Особенно привлекало в них то, что для человека, верующего в них, все окончательно и бесповоротно “решено”. “Злобные враги рабочих”, “против всех богатых”, “лишь одна революционная, непоколебимая”, “восстали рабы”, “в одиночку — жизни не перевернуть”, “старую жизнь ... пустить на дно”, “нужна братва отважная”, “народ крепкой породы”, “бить без пощады”... Собственно, в этих словах-лозунгах заключается вся идеология Корчагина и романа “Как закалялась сталь”. Дальнейшая жизнь Павла в романе заключается в последовательном, героическом преодолении своей личности — вместе с индивидуализмом и анархизмом, в подчинении своего поведения и сознания дисциплине “должного”, в преобразовании чувств, мыслей, интересов и поступков в “чудесный сплав”. Если вся русская литературная классика, начиная с Карамзина и кончая последним представителем серебряного века, билась над тем, чтобы пробудить в человеке личность, индивидуальность, разбудить самосознание, развить рефлексию, воззвать к личной ответственности за все совершающееся в мире, то классика советская стремилась все это нещадно вытравить из человеческой породы. Не только стремилась, но и добивалась на этом пути больших побед.
Отдельные Корчагины силой революции без остатка “сплавлялись” в единую “братву”, в один народ, в крепкий металл. Любой плюрализм — в убеждениях, вкусах, интересах, идеях — вытравлялся нещадно. Все индивидуальности, личные воли, душевные миры перековывались в цельный монолит, в единую массу и в таком виде закалялись. Ранее А. Серафимовича заинтересовала сама революционная сплоченность трудящихся масс, давшая название знаменитому его послереволюционному роману — “Железный поток”. И ему удалось изображение пестрого, безликого целого, движущегося к неясной, но влекущей цели. Н. Островского же занимал сам процесс освобождения человека от своей личности, от индивидуальных черт и стремлений, процесс его превращения во “всемство”11: в участника движения, бойца Красной Армии, члена комсомола, партии, частицу советского народа и даже в сверхпрочное вещество — сталь. Сталь варят, отливают в формы, выковывают, закаляют, затачивают, пускают в ход... Сталь — это масса, материал, неодушевленный инструмент, овеществленная воля, орудие и оружие в руках тех, кто ее применяет, использует в деле... Сталь — это средство достижения цели, и счастлив тот, кто имеет в своем распоряжении стальные мускулы, стальные сердца, стальные лица! Вера Мухина, создавая своих знаменитых “Рабочего и Колхозницу”, вероятно, имела в виду именно эту символику. Голая целеустремленность и целесообразность, опредмеченная в металле. Средство, оправданное целью.
Кто эти Сталевары, Металлурги, Металлисты, что распоряжаются стальными ресурсами страны? Гефесты нового мира, Кузнецы всеобщего счастья? В романе Островского не дается ответа на этот вопрос. Сталь закаляют — то ли вожди, демиурги, Сталины Нового мира, то ли рядовые старшие товарищи, то ли сами великие революционные процессы, потрясающие мир до основания и расплавляющие его в магму (Корчагины — “рожденные бурей”). Главное же в том, что сталь закаляется сама, закаляется собой!
В одном из лирических, даже интимных эпизодов романа “Как закалялась сталь” Рита Устинович говорит Сереже Брузжаку:
“— Видишь небо? Оно голубое. А ведь у тебя такие же глаза. Это нехорошо. У тебя глаза должны быть серые, стальные. Голубое — это что-то чересчур нежное.
И, внезапно охватив его белокурую голову, властно поцеловала в губы”. Это — большевистское объяснение в любви... Переделка человека должна, с позиций революционного максимализма, затронуть все, даже внешность человека, не только характер. Все, чего коснулась революция, должно превратиться в сталь, подобно тому как в древнегреческом мифе все, к чему бы ни прикасался жадный царь Мидас, становилось золотом, и он не мог впредь ни есть, ни спать, ни одеваться... А ведь это было именно то, о чем он молил богов! Та же беда постигает и героев Островского, по своей доброй воле превращающихся в несгибаемую сталь. Все, что за пределом “стальных конструкций” революции, войны, политики, — от лукавого, то бишь от “старого мира”. Не случайно во взаимных упреках между Сережей Брузжаком и Ритой Устинович звучит хлесткое словечко “мещанство” и, как его синоним, — “лирика”. Но как бы они ни убеждали себя в том, что, кроме любви, остается еще борьба, что строительство узкоколейки, а в ее лице и социализма в целом — важнее, чем создание семьи, для читателя романа все это остается декларацией. Все персонажи Островского глубоко несчастны в личной жизни. И это неизбежная цена отказа от своей личности — во имя общественного долга.
Все личное подлежит коренной переделке, “перековке”, “переплавке”. Вместо индивидуальности — Революция, вместо любви — идеология, вместо семьи — партийная “братва”. Вступая в партию по ленинскому призыву, брат Павки Артем на собрании в шепетовском депо кается: “Тут семья, дети... Завалился я в домашность”. Партийцы с пониманием встречают его покаяние. “Мало свою власть защищать, — продолжал старший Корчагин, — надо всей семьей заместо Ленина, чтобы власть советская, как гора железная, стояла. Должны мы большевиками стать — партия наша ведь?” Однако “семья заместо Ленина” или “гора железная” заместо “домашности” — это уже метафорическая Семья — товарищей по партии, большевиков, “комсы”, общность людей, породненных идейным, классовым, политическим родством, замещающая традиционную семью. С большим опозданием Артем приходит к тому же “стальному” образу жизни, который выносил всем своим существованием его младший брат, и сразу же становится невидимой частицей “железной горы”. Очень важно заметить, что революционные массы у Серафимовича льются, как “железный поток” (образ 20-х годов), а у Островского массы недвижно стоят, как “железная гора”, твердыня нового политического строя (образ 30-х годов).
Всю жизнь Павел Корчагин вел борьбу с “домашностью”, стремился влиться в партийную семью, и ни в какую иную. В тот момент, когда “изящно, нарочито изысканно” одетая Тоня Туманова явилась вместе с Павлом на городское комсомольское собрание, произошло “начало развала дружбы”, еще недавно казавшейся крепкой. Корчагин, для которого “дешевый индивидуализм Тони становился непереносимым”, дает своей возлюбленной жестокую и незаслуженную отповедь: “Ты, конечно, знаешь, что я тебя любил, и сейчас еще любовь моя может возвратиться, но для этого ты должна быть с нами. Я теперь не тот Павлуша, что был раньше. И я плохим буду мужем, если ты считаешь, что я должен принадлежать прежде тебе, а потом партии. А я буду принадлежать прежде партии, а потом тебе и остальным близким”. И дальше: “У тебя нашлась смелость полюбить рабочего, а полюбить идею не можешь”. Будучи сам “обручен с идеей”, Корчагин хотел, чтобы и все вокруг были также “обручены” и любили идею больше, чем живого человека.
Как ни странно, принципиальная “антисемейность” романа Н. Островского в истории русской литературы стоит особняком и совершенно неорганична традициям Пушкина, Тургенева, Гончарова, Л. Толстого и др. Она сопоставима лишь с идеологическими, философскими романами Достоевского, персонажи которого тоже по-своему “обручены” со своими идеями. Между тем Достоевский, писатель и мыслитель, совершенно неприемлемый для Островского (он последовательно вычеркивал Достоевского из всех списков), в принципе не мог оказать на него никакого влияния, кроме прямого отталкивания и раздражения. Конечно, никакими собственно литературными мотивами эта особенность романа “Как закалялась сталь” не объяснима. Все дело в идейно-политическом радикализме, которым страдают все любимые персонажи Островского, да и он сам. К тому же все любимые герои Островского “обручены” не каждый со своей, персональной идеей, как идеологи Достоевского, а с одной, общей для них всех идеей — идеей Революции. Любое отступление oт этой любви рассматривается как измена, предательство, нравственное и политическое падение.
Рита Устинович, как и Корчагин, “обручена с идеей”. Она “его друг и товарищ по цели, его политрук”. Но “все же она была женщиной”; его “волнует ее объятие”; “напрягая волю”, он подавляет желание. Пытаясь выстроить с Ритой Устинович “идейную дружбу” и замечая за собой смутные еще проявления зарождающегося чувства, Павел решает все время одно — “сжечь мостки. Любовь приносит много тревог и боли. Разве теперь время говорить о ней?” Это и значит, по Корчагину, найти мужество “ударить по сердцу кулаком”: “хватит муру разводить”. Рита записывает в дневнике, имея в виду своего коллегу Ольшинского: “...я не думаю, чтобы мы стали хорошими друзьями. Причина тому: во мне он видит прежде всего женщину и уже только потом товарища по партии”.
Три года спустя после нелепого разрыва с Корчагиным, встретившись на съезде комсомола в Москве, Рита и Павел объяснились. Они, два товарища по партии, продолжая верить в “идейную дружбу”, сумели снова, как и в прошлом, преодолеть личное чувство. “Личное ничто в сравнении с общим”, — заявляет Корчагин и все же неуверенно спрашивает у любимой, действительно ли он никогда не стал бы для нее “больше чем товарищем”. “Нет, Павел, мог стать и больше”, отвечает Рита, объясняя другу, почему это “поздно” исправить: у нее дочь, муж, “большой мой приятель”; “все мы втроем дружим, и трио это пока неразрывно”. Корчагин находит в себе силы ответить: “Все же у меня остается несравненно больше, чем я только что потерял”. Так рассуждал Корчагин, не только теряя любимых женщин, но и теряя здоровье, двигательные функции, зрение, саму жизнь. Рита же ответила ему письмом: “Я на жизнь не смотрю формально, иногда можно делать исключение, правда, очень редко, в личных отношениях, если они вызываются большим, глубоким чувством. Этого ты заслуживаешь, но я отклонила первое желание отдать долг нашей юности. Чувствую, что это не дало бы нам большой радости. Не надо быть таким суровым к себе, Павел. В нашей жизни есть не только борьба, но и радость хорошего чувства”.
Вряд ли Корчагин тогда оценил откровение своей подруги. Ее стальной характер под ударами жизни несколько смягчился. И произошло это гораздо раньше ее замужества, случившегося после ложного известия о гибели Корчагина. “Она уже пережила и радость страсти и ужас потери”, — свидетельствует автор. Два раза — до Корчагина и дважды — с Корчагиным. Для Корчагина же страсть не была никогда радостью, а потеря любимой или просто симпатичной женщины — ужасом. К личным переживаниям Павла всегда примешивались чувство долга, вины, страх недозволенного, запретного. Корчагин — аскет по убеждению, фанатик общественности. “Для него Рита была неприкосновенна”. Как до нее — Христина, Тоня, как после нее другие женщины. Прикосновенной для него была лишь политика.
Оставшись впервые наедине с Тоней, герой более всего озабочен тем, чтобы сохранить целомудрие: “Юность, прекрасная юность, когда страсть еще непонятна, лишь смутно чувствуется в частом биении сердец; когда рука испуганно вздрагивает и убегает в сторону, случайно прикоснувшись к груди подруги, и когда дружба юности бережет от последнего шага!” “Дружба юности выше всего”, — патетически восклицает Островский, комментируя чувства и поступки Корчагина. Больше Корчагину не представится такой возможности — быть с Тоней вдвоем.
Случай с Христиной — еще драматичнее. Ее, крестьянскую девушку, взяли из деревни “за брата”, красного партизана, который “при советах верховодил в комбеде”. Облюбовавший ее комендант поставил ультиматум: либо она отдается ему, либо назавтра — в караулку к казакам. Обреченная девушка в отчаянии бросается к Корчагину с мольбой о ласке, любви: “Слухай, голубе, — шепчут горячие губы, — мени все равно пропадать: як не офицер, так те замучат. Бери мене, хлопчику милый, щоб не та собака дивочисть забрала”. Корчагин вспоминает о Тоне. Вырываясь из объятий Христины, он лепечет жалкие слова: “Что ты говоришь, Христина?”, “Я не могу, Христина. Ты — хорошая, — и еще что-то, чего сам не понял”. Для Корчагина принцип выше жалости, влечения, участия, выше обстоятельств, выше слабости, выше человечности... “Днем пришел комендант, и казаки увели Христину. Она попрощалась глазами с Павлом. В них был укор”. “... И она больше не пришла”, — с трудом рассказывал чудесно спасшийся от расстрела Павка Тоне; та сдерживала рыдания. Больше Корчагин, по роману, не вспоминал о мимолетной жертве петлюровского террора, — ведь он и сам был его жертвой, случайно избегшей неминуемой гибели.
Иногда кажется, что Корчагин боится женщин, страшится любви, тем более — чувственной. Все, что связано с противоположным полом, для него табуировано. Его постоянно искушают: соблазн, греховное плотское начало, “мещанские” послабления личному. Но он каждый раз “с честью” выдерживает все испытания, оставаясь вновь и вновь чист и целомудрен — один, точнее, с коллективом, с “братвой”, с идеей. Те же из “комсы”, кто в духе 20-х годов, в духе пресловутой “теории стакана воды” пытался осуществлять “сексуальную революцию” — вместо пролетарской или вместе с ней, — для Корчагина так же ненавистны, как белогвардейцы или петлюровцы, насильничающие во время еврейских погромов, как троцкисты или “рабочая оппозиция” (Цветаев, Дубава, Файло, Грибов и др.). С ригористической точки зрения все они стремятся развратить или расслабить молодежь, то есть являются сознательными или бессознательными вредителями, врагами. Более того, в подтексте романа звучит убеждение, что все моральные разложенцы именно потому “вo грехе”, что они идейно “нечисты”, не являются истинными большевиками, не причастны к высшему сплаву коллективной “святости” и подвержены “порче” индивидуализма и гедонизма.
Наблюдая за политическим ростом Таи Кюцам, ставшей женой Корчагина в тот самый момент, когда Павел окончательно превратился в инвалида, герой с грустью понимает, что видит жену и подругу все меньше, что и она отдаляется от него, включаясь в общественную жизнь. Идейный боец и здесь находит для себя слова утешения: “Я слежу за рождением в ней нового человека и помогаю, сколько могу, этим родам. Придет время, и большой завод, рабочий коллектив завершат ее формирование. Пока мы здесь, она идет по единственно возможному пути”. Далее он вспоминает слова Берсенева: “Если у большевика жена — товарищ по партии, они редко видят друг друга. Тут два плюса: не надоедят друг другу, и ссориться некогда!” Корчагин и это “принял как должное”. Следя за партийной карьерой жены, Корчагин испытывает “гордость за подругу, превращающуюся в большевика”, и сознание этого смягчает “тяжелое положение Павла”. Это напоминает жизнь мужа и жены, принявших пострижение в соседних монастырях — мужском и женском (ср. житие Петра и Февронии).
Все частное, личное, интимное и семейное в жизни человека, вместо того чтобы “закалять сталь”, “рассиропливает” человеческий материал, разжижает коллективную волю, отвлекает от самодовлеющей борьбы за общие цели — социализм, мировую революцию, советскую власть, наконец, разрушает коллективистское начало. А это, с точки зрения Корчагина — Островского, и есть самое главное в жизни человека. Они не просто верят в это, но и целеустремленно вытравляют из собственной жизни и сознания, а также из обихода окружающих их людей все личное, индивидуальное, все, не имеющее политического смысла и ценности.
Один из самых серьезных и глубоких исследователей романа Н. Ocтровскогo — Л. Тимофеев подсчитал, что на 300 страниц текста романа “Как закалялась сталь” приходится 250 эпизодов и 200 персонажей, и впоследствии критики и литературоведы наперебой повторяли эти поразительные цифры. Человеческое лицо живет в романе в среднем не более полутора страниц; каждый эпизод занимает место и того меньше — немногим больше страницы. Роман превращается в калейдоскоп, точнее, в непрерывный поток событий, лиц, поступков, характеров, в котором они подчас сливаются, перетекают друг в друга — словом, существуют не по отдельности друг от друга, а в целом, слитно, единой массой. Автор добивается невиданного художественного эффекта: он буквально “растворяет” каждую попадающуюся ему на глаза личность в массе, в потоке обстоятельств, исторической событийности. В этом потоке теряют смысл традиционные понятия характеров и обстоятельств, ситуации и сюжета, автора и персонажа, как утрачивают свои параметры и значение у Н. Островского жанр, стиль, творческий метод и другие литературоведческие категории. Это принципиально новая, неклассическая поэтика12.
Критик, быть может, лучше других проникший в творческую лабораторию Н. Островского, — Лев Аннинский так описывал впечатление, складывающееся у подготовленного читателя от чтения романа “Как закалялась сталь”: “Люди не исчезают: выйдя из тьмы, они уходят во тьму, они... ближе или дальше в метельном вихре. Это все тот же принцип: знакомые — незнакомы, а незнакомые — знакомы. Сама категория знакомости, категория лица, неповторимой личности — размыта. Между человеком, которого мы знаем лично, и человеком, чей силуэт лишь мелькнул в метели, — нет границы, нет качественной разницы. Личное и безличное начала все время соединяются в каком-то изменчивом, подвижном единстве. Границы личности неотчетливы, и не личность оказывается внутренним центром движения, а могучий, всеподчиняющий, надо всем стоящий закон, владеющий этим скользящим вихрем точечных элементов”13.
Вот парадокс романа: поток неуловимых персонажей и стоящая посреди него неподвижная “стальная арматура” заданной концепции, неумолимый закон бытия. В другом месте Л. Аннинский подмечает еще одну характерную поэтическую особенность романа “Как закалялась сталь”, эффектно работающую на ту же концепцию: “...у Островского главное — не подробности, а то, что за подробностями, между подробностями; он угадывает во внешнем действии лишь скупые знаки иной, и могущественной, реальности”14. Эта “иная”, над- и внечеловеческая реальность, вытесняющая человеческую личность и любые относящиеся к ней детали человеческого существования, символична. Даже не стоит задумываться над тем, что собой представляет эта бесчеловечная реальность — государство, партия, не взятая или взятая большевиками крепость, техника, “решающая всё”, коммунистическая идея. Любая конкретизация этой реальности, по сути, неверна, потому что эта реальность — мистическая, трансцендентная, недоступная сознанию, явно потусторонняя, а потому особенно величественная, зловещая, вселенская. Вера в Это одновременно и коллективно вдохновляет людей, и парализует в них индивидуальность, одушевляет и подавляет, внушает оптимизм.
По существу Островский приоткрывает перед читателем — не только своим современником, но и далеким потомком, отнюдь не разделяющим ни идеалов, ни убеждений автора, — механизм порождения тоталитаризма, тоталитарного сознания, тоталитарной культуры. Буквально на наших глазах яркие личности, неординарные характеры (во всяком случае, потенциально) растворяются без остатка в “железном потоке” всеобщего, массового бытия, превращаясь в “колесико и винтик” бездушной всепобеждающей машины. Преодоление личности свершилось! Неподвижная стальная громада однопартийного государства поглотила всех — сильных и слабых, талантливых и бездарных, умных и глупых, здоровых и больных, живых и мертвых... Остался один всеобщий Закон — Новейший Завет, сформулированный, как пишет Павел Корчагин в письме к брату Артему, Сталиным: “...слова вождя относятся и ко мне: “Нет таких крепостей, которых бы не взяли большевики”15.
Не случайно к творчеству ни одного другого писателя 20—30-х годов не подходила до такой степени адекватно формула социалистического реализма, запечатленная в Уставе ССП, что был принят на съезде советских писателей (1934): “...правдивое, исторически-конкретное изображение действительности в ее революционном развитии”. Жизнь и творчество прототипа Павла Корчагина, особенно в романе “Как закалялась сталь”, каждый факт его биографии и деятельности буквально воплощали в себе эту идею, сочетая ее воплощение, как и было положено по Уставу, с “задачей идейной переделки и воспитания трудящихся в духе социализма”16. Это предопределило историческое значение Н. Островского как культовой фигуры социалистического реализма и образца советского писателя на многие годы вперед. Можно было подумать, что сакраментальная формула соцреализма создавалась Сталиным “под” роман Островского или сам роман писался по теоретической схеме нового творческого метода. Между тем случайное совпадение теории и практики социалистического реализма на его начальном этапе было еще менее вероятным.
Насыщенная событиями и внутренним динамизмом, полная трагизма и волевой целеустремленности, жизнь и судьба Островского объективно являли собой живую легенду о новом, советском человеке, молодом большевике, воспитанном и руководимом партией, полном личной самоотверженности и коллективизма, идейной убежденности и непоколебимой принципиальности во всем. Однако то обстоятельство, что молодой большевик, для того чтобы лучше служить своей партии и родине, стал писателем, овладел литературным мастерством, преодолел немыслимые трудности на пути творческой самореализации и написал о себе и своей судьбе большое и художественно значительное произведение, в котором правдивость и историческая конкретность материала получали дополнительный импульс революционности и исторической перспективы саморазвития, придавало творимой легенде символический смысл. Большевики могут всё, если потребуется, даже невозможное... Главное — верить в цель жизни, в смысл будущего17.
В принципе эта мысль лишь подхватывает официальную доктрину. В речи Сталина “О задачах хозяйственников” (1931), которую цитировал Корчагин, читаем: “Дело это (овладеть техникой. — И. К.), конечно, не легкое, но вполне преодолимое. Наука, технический опыт, знания все это дело наживное. Сегодня нет их, а завтра будут. Главное тут состоит в том, чтобы иметь страстное большевистское желание овладеть техникой, овладеть наукой производства. При страстном желании можно добиться всего, можно преодолеть все”18. За всеми деловыми и практическими устремлениями оратора встают наивно-романтические представления о чудодейственности человеческой воли, массового героизма, технического оснащения труда, легко подхваченные страной и запавшие в душу Островскому.
Всесоюзная легенда об Островском дублировалась легендой о Корчагине, созданной самим Островским; смысловое удвоение эффекта от легендарной “закалки” советского, большевистского характера выражалось в том, что роман “Как закалялась сталь” выводился за пределы литературы и культуры, превращаясь в текстуальное отображение самой объективной реальности, а жизнь Островского представала как романтическое литературное произведение, автором которого являлась сама Революция. Жизнь и судьба автора, как и его героя, очерчивали собой общую логику исторического развития послеоктябрьской действительности — как побеждающей и ширящейся революции. Оставалось довершить легенду таким образом, чтобы она обрела логический конец, став действительно легендой, притчей, даже новым мифом, способным вдохновлять и вести за собой массы трудящихся Советского Союза.
По заданию партийного руководства миф об Островском — большевике, бойце, организаторе комсомола, писателе — целеустремленно дописывался; на его завершение был брошен сам Михаил Кольцов, написавший очерк “Мужество”. Островский становился фигурой, озаренной нимбом “советской святости” — рядом с Чапаевым и Щорсом, Котовским и Буденным, Павликом Морозовым, Стахановым, челюскинцами, папанинцами, Чкаловым... А на фоне этих “мелких культов” простых советских людей и с их помощью выковывалась новая коммунистическая религия с грандиозным двуглавым культом вождей-небожителей — Ленина и Сталина. Раздувать культ Островского было несложно и неопасно: фанатик идеи и преданный партиец, он не получал иной информации о жизни, кроме официальной, а значит, не мог составить духовной оппозиции государственной идеологии; в то же время он не мог сделать ни шага без посторонней помощи, его творчество было подконтрольно и подцензурно приставленным к нему редакторам, коллегам, помощникам, секретарям, пропагандировалось отрядом освещающих его жизнь и деятельность журналистов. Его собственная политическая, литературная и религиозная харизма была неуязвима. Глеб Струве был прав, когда проницательно заметил, что “широкая национальная популярность Островского” одновременно была “спонтанна, добровольна и стихийна”, но также была результатом и “обдуманного мифотворчества”19.
Ядром успеха Островского стал его главный герой — первый в своем роде образец идеального героя, самая “идеальность” которого, с одной стороны, эффектно усиливалась его нравственным ригоризмом, бескомпромиссностью и максимализмом, квазирелигиозной аскезой революционера, а с другой — оттенялась его “реальностью” — документальностью и автобиографичностью. Характерно, что лишенный “идеальности” героя Островского его полный тезка (персонаж повести Б. Левина “Жили два товарища” Павел Корчагин) не был замечен читающей публикой и вскоре оказался прочно забыт.
Помимо яркого и интригующего тождества-различия самого Островского и его героя — Павла Корчагина свою поистине гипнотическую роль сыграло и метафорическое заглавие первого романа Островского. В отличие от повести А. Бусыгина, называвшейся похоже — “Закалялась сталь” (1925), в середине 30-х годов роман Островского прямо ассоциировался не с производством или железной дорогой, как это было в 20-е годы, а с политическими реалиями времени. “Сталь” у Островского — символ революции, большевизма, твердости и несгибаемости советского духа и связана вольно или невольно с именем Сталина (не упоминаемого, впрочем, нигде в романе), его неоднократно поэтизированной “стальной волей”, с текстом “сталинской клятвы”: “Мы, коммунисты, — люди особого склада. Мы скроены из особого материала”, “Товарищ Ленин нашу партию... выпестовал... как самую крепкую и самую закаленную в мире рабочую партию”, “В жестоких боях выковала наша партия единство и сплоченность своих рядов”20. Мифология индивидуальной героической судьбы сливалась с мифологией партии и ее вождя. Поэтому роман Островского “Как закалялась сталь” — при всей его талантливости и субъективной искренности — оказался неотрывным от советского политического строя и тоталитарной культуры, стал своего рода образной формулой тоталитаризма.
Заключительные строки знаменитого романа представляют собой набор сакральных формул воскресения из мертвых “живого трупа”: “Сердце учащенно билось. Вот она заветная мечта, ставшая действительностью! Разорвано железное кольцо, и он опять — уже с новым оружием — возвращался в строй и к жизни”. Биение сердца. Мечта, ставшая былью. Железное кольцо обстоятельств. Разорванное враждебное окружение. Возвращение в строй бойцов. Возвращение к жизни погибших... Все эти идеологические штампы, впоследствии навязшие на зубах советскому читателю, знаменовали для автора романа “Как закалялась сталь” окончательную победу над литературной беспомощностью неграмотного самоучки, над болезнью, надо всеми мыслимыми и немыслимыми жизненными обстоятельствами, над самой смертью.
В октябре 1935 года Островский — пятый среди писателей — становится орденоносцем. В постановлении ЦИК СССР, подписанном Г. Петровским, говорилось, что писатель Островский Н. А. награждается орденом Ленина как “бывший активный комсомолец, героический участник гражданской войны, потерявший в борьбе за советскую власть здоровье, самоотверженно продолжающий оружием художественного слова борьбу за дело социализма”, а также как “автор талантливого произведения “Как закалялась сталь”. Островский ответил на награду Родины письмом-молитвой земному Богу — И. В. Сталину: “Дорогой, любимый товарищ Сталин! Я хочу сказать Вам, вождю и учителю, самому дорогому для меня человеку, эти несколько пламенных, от всего сердца слов. Мне очень больно подумать, что в последних боях с фашизмом я не смогу занять своего места в боевой цепи. Жестокая болезнь сковала меня, но с тем большей страстностью я буду наносить удары врагу другим оружием, которым меня вооружила партия Ленина — Сталина, вырастившая из малограмотного рабочего парня советского писателя”.
Островский становился живым классиком советской литературы, едва ли не затмевая своей особой Горького и Маяковского. Последние, как известно, нередко ошибались, вступали в противоречия, изменяли своим принципам, в то время как Островский никогда не колебался, не менял принципов, не допускал ошибок и т. п., являя собой и своим творчеством исключительную цельность, монолитность, единодушие с партией, народом, вождем — качества, органически созвучные эпохе становления советского тоталитаризма.
Став знаменитым и оказавшись в центре всесоюзного, а отчасти и всемирного внимания, Островский превратился (неожиданно для самого себя) в “оракула” социалистической эпохи. Его многочисленные выступления и статьи, речи, интервью, заявления, надиктованные в течение последних трех лет жизни, благодаря характерной для Островского афористичности высказываний (заметной уже в “Как закалялась сталь”) воспринимались как исторический завет, пророчество, исчерпывающее обобщение, как истина в последней инстанции. Однако задушевные заповеди Островского — под пером его литературных редакторов или по причине собственного публицистического косноязычия, — как правило, превращались в прямолинейные политические декларации, несшие на себе печать конкретной эпохи и за ее пределами воспринимавшиеся как идеологические клише, как примитивная дидактика и пропагандистский лозунг.
Литературно-политические сентенции Островского лаконичны, как боевой приказ или политический наказ, они дидактичны и категоричны в своих утверждениях и отрицаниях. Они просты по мысли, однозначны по смыслу. Временами они напоминают политические прописи, воспринимающиеся сегодня, через шесть с лишним десятилетий, как велеречивая банальность. Однако фанатик верит в то, что провозглашает; это его личное открытие, за которое он заплатил своей борьбой, своим здоровьем, своей нынешней неподвижностью — всей своей жизнью.
Публицистика Островского — это “Как закалялась сталь”, из которой “вычли” описанную автором повседневность, сюжет и ситуации, характеры и поступки, бытовые детали и скупые, но точные психологические переживания, это “Как закалялась сталь” без Павла Корчагина. Это голый идеологический каркас романа. И сегодня, перечитывая идейную схему отдельно от романа, мы наглядно видим мертвизну и схоластичность этой схемы, ее содержательную бедность, догматизм и примитивизм идей. Идеология романа не выдержала испытания временем. А между тем именно она была главным предметом заботы всех литинспекторов, окружавших Островского и направлявших его как писателя. Именно идеология больше всего занимала и самого Николая Островского. Напротив, все то, что современникам казалось несовершенным, субъективным, личным, частным, незначительным, только и сохранило свое значение — как документ времени, как живой голос эпохи, как человеческая ценность.
Корчагин был не только долговечнее, но и больше, крупнее Островского. За “вычетом” Павла Корчагина Н. Островский оказался ординарным, шаблонным мыслителем, посредственным беллетристом, недальновидным и неоригинальным политиком. И тем не менее именно Николай Островский создал и роман, ставший эпохальным явлением советской литературы, и образ Корчагина, переживший его самого, героическое поколение 20-х годов и саму советскую власть. Наконец, он своим примером обосновал и поддержал советский культ — детальную атрибутику коммунистической веры, став, наряду с нетленными ленинскими мощами и чудесами, творимыми божественным Сталиным, важнейшим элементом советской религии — Нового Православия.
2. “КРАСНЫЙ УГОЛ ИСТОРИИ”
Бесполезно поэтому гоняться за властью или говорить о ней до бесконечности, ибо отныне она тоже стала частью сакрального горизонта кажимостей. Она здесь только затем, чтобы скрыть, что ее больше не существует, или, скорее, что после апогея политики начинается спад, другая фаза цикла, обращение власти в собственный симулякр.
Завладеть властью можно не больше, чем завладеть тайной. Ибо тайна власти — в том же, в чем и тайна тайны: она в том, что ее нет.
Жан Бодрийяр, “Забыть Фуко” (1977)21.
“История России еще не написана... Могучие силы народа, его дыхание не в достаточной мере присутствуют в почтенных томах наших историков, для которых часто наше прошлое было оружием полемической борьбы с самодержавием” [с. 383]. Так писал Алексей Толстой в статье “На историческом рубеже” (1943), явно напирая на ошибочность позиции отечественных историков прошлого и настоящего. Заявляя эту позицию, он сам выступал как историк и как писатель, специализирующийся на исторических романах и пьесах. Уж он-то, читаем мы между строк его статьи, точно знает, каким оно должно быть — это “наше прошлое”! Алексей Толстой как будто все же недоговаривает того, что у него вертится на языке: “наше прошлое должно быть оружием в поддержку самодержавия, средством его оправдания и даже апологии”. Толстовское видение истории само полемично — не только по отношению к историкам прошлого, но и к историческим романистам XIX века (в том числе и двум предшествующим графам Толстым — Алексею Константиновичу и Льву Николаевичу, явно не жаловавшим русское самодержавие — ни XVI, ни XIX века). Другое дело “третий Толстой”: он пишет историю России заново, как бы с чистого листа, без оглядки на авторитеты прошлого. Он не поддастся дешевым соблазнам европейского либерализма и свободомыслия, от которых, собственно, и пострадала отечественная история под пером либералов-западников. Он станет первым, кто представит читателям неискаженный облик России.
“И несмотря на блестящие имена наших историков, все же история России писалась по образцам западноевропейской историографии... — замечает, как истый патриот, А.Н. Толстой. — Пример тому — искажение великой эпохи Ивана Грозного, где Грозный — только кровожадный тиран, а Курбский — пример либерализма и свободомыслия” [с. 383]. Впрочем, ни один славянофил XIX века никогда не превозносил ни Ивана Грозного, ни Петра. Толстой берется за, казалось бы, невозможное: исправить ошибки всех своих предшественников, отвергнуть все стереотипы западных и отечественных представлений о России и русской истории, устранить устоявшееся искажение “великой эпохи” и обелить русскую историю. А это значит в данном случае — реабилитировать Ивана Грозного как гуманиста и народного героя, как создателя и спасителя Отечества и развенчать, к примеру, князя Курбского как предателя и изменника, презренного эмигранта, едва ли не как пресловутого “шпиона и диверсанта” из сценария памятных московских процессов. “Новый взгляд” на русскую историю, не искаженный либерально-западническими, как и славянофильскими предрассудками, заставлял пересмотреть все факты, все привычные суждения и оценки, переоценить все ценности в духе советизма. И А. Толстой совершает открытие русской истории — невиданное, небывалое, даже фантастическое — как исторического творчества, аналогичного художеству, в котором творческая фантазия, художественный вымысел играли бы ту же роль, что и в сочинении собственно беллетристическом.
Правда, для этого историческому писателю нужно кое с чем (в прежней, отсталой российской историографии) распроститься раз и навсегда — с такими, например, идеями и принципами, как гуманизм, личность, историческая правда, как само ощущение исторического времени не в виде однонаправленного необратимого процесса, а в качестве широкого поля для различных предположений и вариаций... И сразу же наступит освобождение автора. Освобождение романиста от пут прошлого, истории, предшествующих историков — для вольного творения истории (в стиле fantasy, например). И как только наступает такое освобождение, для писателя теряют значение такие явления, как исторический документ, исторический факт, свидетельства очевидцев... Литератор-историк вправе отбирать те из них, которые ложатся в его представления, которые соответствуют его исторической концепции, передают в общем виде атмосферу события или эпохи. Селекция становится главным принципом отношения к историческому материалу. Но писатель также вправе игнорировать другие факты, события, свидетельства, интерпретации, выдумывать третьи, переделывать в русле своих идей четвертые, переосмыслять “с точностью наоборот” — пятые и т. д. Свобода исторической мысли наступает полная, а литератор становится вольным творцом истории как своего текста.
Толстой любил повторять, что главная опасность для писателя, работающего с историческим материалом, — “утопить выдумку, фантазию, живописность в историческом материале”. Исторический документ он сравнивал с фотографией, которая представляет собой “запись выражения человеческого лица в одно из мгновений, но никогда не лица в целом, не типа лица”. Роман менее всего должен быть “исторической хроникой”, — в этом случае погибает искусство. “Ведь выдумка иногда больше правды, больше, чем сама правда, и часто голая документальность малоубедительна” [с. 315]... Вот оно — откровение художника, провозглашающего выдумку выше правды, а свое искусство важнее истории! Толстой, воспитанник и сам участник литературного процесса серебряного века, прекрасно понимал, насколько близко подошел он к осуществлению мечты Вл. Соловьева и его последователей — об искусстве как области воплощения идей и преображения действительности. Однако он не догадывался о том, насколько опасной — и для искусства, и для действительности — была эта близость: “искусства как истории” — к “искусству истории”! Становясь предметом свободного эстетического творчества, история вместе с тем превращалась в увлекательную игру, целиком зависящую от настроений и взглядов ее творца.
Рассказывая своим читателям о текущей работе, А. Толстой объяснял свой замысел драматической трилогии “Иван Грозный”. “Время Грозного, XVI век, — это эпоха создания русского государства ... Эпоха Грозного — это эпоха русского ренессанса, которая, так же как эпоха Петра Великого, отразила огромный подъем творческих сил русского народа... в личности Ивана Грозного и людей, его окружавших, с особенной яркостью отразилось все своеобразие, весь размах русского характера. Грозный — человек больших страстей, человек огромного, пытливого, иронического ума, ума практического и вместе с тем способного на непомерный полет фантазии” [с. 372].
Под пером писателя любая эпоха могла “задним числом” быть исправлена и преображена в любую сторону, а ход истории — построен в соответствии с воображаемой логикой ее развития, как она представала в творческой фантазии художника. Тиран мог обернуться обаятельным национальным героем и народным кумиром, разрушитель государства — созидателем и творцом, волевым строителем нового мира, садист-убийца — любящим супругом и добрым царем, гуманистом и просветителем, деспот и самодур, принимающий все решения по произволу и в ослеплении страстей, оказывается мудрым, дальновидным политиком и высоконравственной личностью... Писатель мог творить историю, как хотел, без каких-либо оглядок и оговорок или, напротив, с любыми оглядками, по любому “социальному заказу”.
Алексея Толстого в советское время часто называли (не без иронии, конечно) “красным графом”. Во многом это было справедливо, и сам себя он ощущал во многом именно так: граф по рождению и по своему месту в литературе (“третий Толстой”: первый — поэт, драматург и прозаик Алексей Константинович Толстой; второй — великий Лев Николаевич Толстой и третий — уже сам Алексей Николаевич) и красный — по убеждениям, точнее, по мировоззренческому выбору. Приняв однажды решение о своем возвращении из эмиграции в Советский Союз, граф Алексей Толстой сделал для себя, а в своем лице и для русской эмиграции, исторический выбор. Он выбрал Родину и пренебрег социальными, политическими, нравственными, культурными и иными отвлеченными принципами, превалировавшими в мировоззрении других эмигрантов. Те (например, Бунин) предпочли остаться вне родины, на чужбине, но не изменять своим принципам, отвергавшим революцию и советскую власть, большевизм и красный террор, Ленина со Сталиным и “содержанцев московской красной блудницы”22-23.
Бунин был действительно бескомпромиссен к советской власти, — и в период “Окаянных дней”, и в 30-е годы, на вершине своей славы, после получения Нобелевской премии, и после начала второй мировой войны, когда он находился в бедственном положении, и после окончания войны, когда разнесся слух, что Бунин возвращается в Россию, и даже после смерти Сталина. Бунин боялся компромиссов и отступления от своих политических, нравственных и художественных принципов, чувствуя, что вместе с нарушением твердых принципов утрачивается ядро его собственной личности24.
Алексей Толстой этого не боялся. Его творческая энергия не зависела от политических убеждений или типа власти, — она всецело была связана с ощущением Родины, сознанием своей причастности судьбам и свершениям великого государства, его трагической и славной истории, — независимо от того, кто это государство возглавлял и куда эту историю направлял. Власть и политические деятели не были для А. Толстого посредниками между ним (как художником, как гражданином) и Родиной (к какому бы этапу истории России он ни прикасался — к эпохе Ивана Грозного или Петра I, ко времени гражданской войны или Великой Отечественной). А. Толстой был связан со своей страной и ее историей непосредственно и прямо. Он не переставал себя ощущать графом. Может быть, даже последним русским графом. Единственным выжившим в Советской России графом. Графом, оставшимся таковым при любой власти — царской ли, советской ли. “Графство” Толстого и Толстых — и реальное, и виртуальное — было наследственным и бессрочным; его нельзя было отменить или отнять (во всяком случае, в самосознании), как какую-нибудь номенклатурную должность или почетное звание. И у А. Толстого не было личного страха — утратить свое место в истории; более того, он понимал, что советская власть не только не решится посягнуть на его исторический статус, но сама заинтересована в том, чтобы писатель Толстой своим историческим статусом ее поддержал и укрепил. И он с удовольствием это делал.
Отпрыск исторической знати, восходившей к Рюриковичам, и полномочный представитель “знати советской”, вызревшей в сотах сталинской номенклатуры, он ощущал себя самого воплощением живой истории, а потому был готов сам ее творить — средствами литературы, художественным словом. Впрочем, сама живая история, причастность к которой ощущал так живо А. Толстой, была уже в значительной степени театрализованной, или, говоря современным языком, виртуальной. Толстой сознательно играл роль графа, каковым себя давно уже не ощущал в реальности. Но он же, по свидетельству очевидцев, нередко играл роль “пролетписателя”, “рабкора” Потапа Дерьмова25 (явная пародийно-сатирическая аллюзия на Демьяна Бедного, Михаила Голодного и других самоучек из народа с говорящими именами). Жизнь невольно превращалась в изысканный исторический маскарад (или даже псевдоисторический балаган), в котором не последнюю роль играл сам автор. Бунин отмечал, что А. Толстой “постоянно играл какую-нибудь роль, говорил на множество ладов, все меняя выражение лица” (с. 290). Как граф, живущий при Советах по-графски, Толстой демонстрировал собой эксклюзивную преемственность царской и советской власти, самодержавия и “диктатуры пролетариата”, вообще великого российского государства — при Иване Грозном, Петре I, Николае II, Ленине, Сталине, независимо от того, как все они себя именовали — великими князьями, царями, императорами, председателями совнаркома, генсеками партии, верховными главнокомандующими...
Когда в 1943 году выдающийся советский писатель с фамилией Толстой рассуждал об “историческом рубеже”, на котором он, страна и мир находились, — он написал красивую фразу: “Советские народы заняли красный угол за столом истории” [с. 383]. Фраза была не только емкой, но и многозначительной. Конечно, в первую голову имелся в виду “красный угол” в доме — почетное место за столом, под образами, то есть главное место (в мировой истории). Но красный цвет в советской символике занимал особое, сакральное место: это цвет революции, это цвет советского знамени, это часть названия Красной Армии — освободительницы мира от фашизма. И в контексте высказывания писателя “красный угол за столом истории” означал поворот всемирно-исторического процесса лицом к Советскому Союзу, к Великому Октябрю, к победе коммунизма. Дело, конечно, не в коммунизме. А. Толстой был искренне убежден, что сама История объективно вывела Россию и его самого в красный угол, из которого мир будет видеться и развиваться уже по-другому, в иной перспективе, с другими тенденциями и закономерностями, с иными результатами. Он был уверен, что после окончания второй мировой войны и победы СССР над германским фашизмом именно этот “красный угол” определит дальнейший ход истории и задним числом оправдает все — в российской и советской действительности.
Противоречия А. Н. Толстого — художника, историка, общественного деятеля, мыслителя на деле куда более кричащие, нежели, например, у “второго Толстого”, автора бескомпромиссного воззвания “Не могу молчать!”. Сегодня мы хорошо знаем, что Алексей Николаевич Толстой умел когда надо молчать, благоразумно игнорируя многочисленные просьбы о помощи и заступничестве, которыми осаждали его как депутата Верховного Совета СССР репрессированные и члены их семей в годы Большого террора, удерживая третью свою жену (уже бывшую) Н. В. Крандиевскую от посредничества в подобных ходатайствах. Но, если это считал необходимым, он мог и отметиться в официальной прессе, поддержав расстрельный приговор Зиновьева и Каменева во время августовского процесса 1936 года или Радека и Пятакова в январе 1937-го; подтвердив своим свидетельством официальную версию Катынской трагедии, приписавшую бессудный расстрел тысяч польских военнопленных фашистским зверствам. Мало кто помнит, что знаменитый лозунг времен Великой Отечественной войны — “За Родину! За Сталина!” — был придуман А. Толстым за несколько лет до начала войны — в виде застольного тоста в честь 60-летия вождя26.
Вот верная характеристика противоречий “третьего Толстого”: “Народный депутат, т. е. народный избранник, защитник народных интересов, обязанный открыто протестовать против беззакония, — а в реальности — номенклатурный чиновник, из всех своих полномочий сохранивший лишь право беспрепятственно двигать бумаги по инстанциям, без возможности повлиять на исход дела. Русский писатель, долг которого — говорить правду, как бы горька она ни была, бороться со злом, какой бы силой оно ни обладало, — а в реальности — винтик агитпроповской машины, строго (и явно в неравной пропорции) отмеривающей правду и заказную ложь”27.
Все сказанное здесь характеризует весьма выпукло и человеческую слабость А. Толстого, и его гражданскую трусость, и его политический сервилизм, но никак не объясняет ни его значения как художника слова, ни своеобразия его писательского метода и стиля, ни его места в русской литературе XX века. Да, в А. Толстом мы видим чудовищное сращение талантливого художника и сытого чиновника, идейного правдоискателя и беспринципного конъюнктурщика, политического демагога и рафинированного эстета, безразличного к судьбам “малых сих”. Что же, по-прежнему, как в советские времена, придется говорить, что А. Толстой был художником вопреки всем его компромиссам с совестью, несмотря на его явное прислужничество преступному сталинскому режиму? Или все объяснять практической выгодой: бытовой и чиновной роскошью, орденами и званиями, должностями и почестями, которыми власть осыпала и окружила облюбованного ею писателя — в обмен на его “преданность без лести” и верную, беспорочную службу? Что-то уж слишком просто для Толстого!
Попытаемся взглянуть на Алексея Толстого глазами его жестко бескомпромиссного и принципиального друга — Ивана Бунина, оставившего свои воспоминания “Третий Толстой”, написанные уже после смерти классика советской литературы. У Бунина, как известно, вызывало приступ тошноты и омерзения все, так или иначе связанное с революцией, советской властью и большевизмом, независимо от степени искренности и таланта соответствующих авторов (Горький, Блок, Маяковский, Есенин, Демьян). Поразительно, но он же с удивительной симпатией и редкой снисходительностью отзывался всегда об “Алешке”, хотя тот явно был “ренегатом”, “предателем” Белого дела и самой “миссии русской эмиграции”. Объяснить это лишь дореволюционными или эмигрантскими дружескими связями невозможно: отношения с Горьким были поначалу не менее дружескими и теплыми. Это не помешало Бунину с нескрываемым презрением и едким сарказмом отзываться о советском периоде жизни и творчества Горького, о его отношениях с большевиками и т. п. Ничего подобного мы не прочтем у Бунина об А. Толстом, поведение которого в советское время было, пожалуй, даже более предосудительным, чем Горького (не говоря уже, например, о Есенине, вызывавшем у Бунина непримиримую ненависть, хотя у того отношения с советской властью явно не ладились).
Весьма добродушно, хотя и не скрывая иронии, Бунин, описывает советский период творчества А. Толстого: “Он, повторяю, всегда приспособлялся очень находчиво. Он даже свой роман “Хождение по мукам”, начатый печатаньем в Париже, в эмиграции, в эмигрантском журнале, так основательно приспособил впоследствии, то есть возвратясь в Россию, к большевицким требованиям, что все “белые” герои и героини романа вполне разочаровались в своих прежних чувствах и поступках и стали заядлыми “красными”. Известно, кроме того, что такое, например, его роман “Хлеб”, написанный для прославления Сталина, затем фантастическая чепуха о каком-то матросе, который попал почему-то на Марс и тотчас установил там коммуну, затем пасквильная повесть о парижских “акулах капитализма” из русских эмигрантов, владельцев нефти, под заглавием “Черное золото”...” (с. 294). Казалось бы, Бунина должно было особенно шокировать чудесное превращение “Хождения” из антисоветского варианта в советский: этакий “перевертыш”, “перерожденец”! Однако всегда желчный и озлобленный в эмиграции Бунин относится к толстовской выходке как к невинной и забавной шутке. А “научно-фантастический роман “Аэлита”, “пасквильная повесть” о нефтедобытчиках и роман “Хлеб” (“для прославления Сталина”) перечисляются в одном ряду как едва ли не одного порядка “фантастическая чепуха”.
Сообщаемые Буниным факты из жизни А. Толстого, приводимые им высказывания своего героя и собственные его оценки носят между тем самый парадоксальный, а иной раз и прямо вопиющий характер.
“Это был человек во многих отношениях замечательный, — пишет Бунин. — Он был даже удивителен сочетанием в нем редкой личной безнравственности (ничуть не уступавшей, после его возвращения в Россию из эмиграции, безнравственности его крупнейших соратников на поприще служения советскому Кремлю) с редкой талантливостью всей его натуры, наделенной к тому же большим художественным даром. Написал он в этой “советской” России, где только чекисты друг с другом советуются, особенно много и во всех родах, начавши с площадных сценариев о Распутине, об интимной жизни убиенных царя и царицы, написал вообще не мало такого, что просто ужасно по низости, пошлости, но даже и в ужасном оставаясь талантливым. Что до большевиков, то они чрезвычайно гордятся им не только как самым крупным “советским” писателем, но еще и тем, что был он все-таки граф да еще Толстой” (с. 289). Кажется, Бунин оправдывает А. Толстого во всем, “списывая” все политические, нравственные, психологические “грехи” и “издержки” на счет художественного таланта писателя. Даже “низости” и “пошлости” А. Толстого — безусловно талантливы, даже в самых “ужасных” своих проявлениях.
В этих же воспоминаниях Бунин смакует взаимоисключающие высказывания А. Толстого, адресованные ему. То во время обсуждения поэмы Блока “Двенадцать” А. Толстой заявил, что он — “большевик до глубины души”, а Бунин — напротив, “ретроград, контрреволюционер” (с. 302), и друзья поссорились. То, встретившись с Буниным в Одессе, граф Толстой закричал: “Вы не поверите ... до чего я счастлив, что удрал наконец от этих негодяев, засевших в Кремле ... Бог свидетель, я бы сапоги теперь целовал у всякого царя! У меня самого рука бы не дрогнула ржавым шилом выколоть глаза Ленину или Троцкому, попадись они мне, — вот как мужики выкалывали глаза заводским жеребцам и маткам в помещичьих усадьбах, когда жгли и грабили их!” (с. 304). Запомним эти заявления: “удрал ... от негодяев, засевших в Кремле”, “сапоги бы целовал у всякого царя” и это: “ржавым шилом выколоть глаза” — Ленину и Троцкому, “попадись они мне”!
А много спустя, во время последней их встречи в Париже в ноябре 1936 года, А. Толстой, как свидетельствовал Бунин, спросил: “Можно тебя поцеловать? Не боишься большевика?” — “вполне откровенно насмехаясь над своим большевизмом”, и стал хвалиться, как он шикарно живет в России, убеждая Бунина вернуться на родину, где его встретят “с колоколами”. Бунин, по его рассказу, отшучивался, говоря, что колокола “у вас запрещены” (с. 311)28, но будто бы не предпринимал никаких попыток дискутировать с “возвращенцем” Толстым о большевизме, советской культуре, жизни в СССР или своем возвращении... Словом, никакого “большевизма” в лице Толстого не боялся.
У читателя создается впечатление, что Бунину на самом-то деле очень импонируют и “цинизм” “Алешки” Толстого, и его демонстративная беспринципность, и “редкая личная безнравственность”, и его игровое, нарочито несерьезное отношение к самым серьезным предметам и темам разговоров. Ему нравится, что А. Толстой — по-прежнему “русский барин” (даже в “стране большевиков”), с широкой, размашистой натурой, не ведущий счет деньгам, подтрунивающий над собственной политической ангажированностью (а на деле — беспринципностью), которую сам “граф” рассматривает не то как средство хорошо жить и не задумываться о своем положении в советском обществе, не то как воплощение принципа аристократизма. Наконец, он восхищен тем, что главное в Толстом при всех обстоятельствах — это его художественный талант, писательство; все же остальное (политика, идеология, карьеризм) — средства или аксессуары творчества, его броский антураж, декорация.
Более того, создается ощущение, что вся толстовская политико-идеологическая мишура, как ее понимает Бунин, всего лишь насмешка — над читателем, верящим во всякую подобную белиберду, над властью, полагающей, что полностью “купила” литературные услуги бывшего графа, над будущими исследователями, которые будут принимать за чистую монету толстовский художественный вымысел и насмешки... Чуть ли не взахлеб рассказывает Бунин историю про медвежью шубу, в которой расхаживал по Москве Толстой, представляя ее небрежно как “наследственную, остатки прежней роскоши”, а потом, по секрету, смеясь, признавался, что “эту наследственность за грош купил по случаю, ее мех весь в гнусных лысинах от моли. А ведь какое барское впечатление производит на всех!” Комментируя эту историю от себя, Бунин объяснял свое приятельство с Толстым именно розыгрышем: “...граф был человек ума насмешливого, юмористического, наделенный чрезвычайно живой наблюдательностью, поймал, вероятно, мою невольную улыбку и сразу сообразил, что я не из тех, кого можно дурачить”. Остальных же — и можно, и должно! “Да кто ж теперь не мошенничает так или иначе, между прочим и наружностью!” (с. 295) — заявлял другу граф.
Другой, аналогичный эпизод, пересказываемый Буниным, происходил опять в Москве, в доме князя Щербатова, где снял квартиру А. Толстой. Здесь он развесил “несколько старых, черных портретов каких-то важных стариков и с притворной небрежностью бормотал гостям: “Да, все фамильный хлам”, — а мне опять со смехом: “Купил на толкучке у Сухаревой башни!” (с. 296). А в Париже, по рассказу Бунина, Толстому удалось продать “за восемнадцать тысяч франков свое несуществующее в России имение”, при этом когда его спросили: “а где же находится это имение?” — то, “не зная, как соврать... вспомнил комедию “Каширская старина” и быстро сказал: “в Каширском уезде, при деревне Порточки... И, — добавил граф, — слава богу, продал!” (с. 308).
Бунинские воспоминания о “третьем Толстом”, конечно, могут содержать в себе, как это нередко бывает у художников, в том числе и у Бунина, значительный элемент вымысла или домысла, хлестких преувеличений или чрезмерных обобщений. Но вряд ли в целом облик Алексея Толстого и самое главное в нем (широкая натура, артистизм, нарочитая беспринципность, ерничество, склонность к розыгрышам и вдохновенному “вранью”) были схвачены неверно или нарочно искажены. Сомнительно, чтобы тенденция, столь ярко и с симпатией запечатленная Буниным в его нарративе, вообще отсутствовала в характере и образе жизни “красного графа” или была в нем вытравлена без следа советским временем.
Когда-то Бунин написал книгу о “втором Толстом”, с которым много общался и который сильно повлиял на его творчество. Назвал свою книгу Бунин “Освобождение Толстого”. Он мог бы, в порядке полемики с собой и Львом Толстым, назвать свой очерк об Алексее: “Закабаление (закрепощение) Толстого” — или хотя бы как-то это обыграть, намекнуть... Но нет же! Читая воспоминания Бунина, мы нигде не увидим даже подозрения автора относительно несвободы его собрата по перу. Поразительно, но несомненно: Бунин показывает своему читателю (прежде всего русскому эмигранту), что у Алексея Толстого было свое “освобождение”. Живя в Советской России, пользуясь ее благами, он был... внутренне свободен от советской власти! Он с нею считался, ею пользовался, но по большому счету, как личность и как писатель, от нее не зависел. Напротив, во многих случаях уже она, всесильная, террористически действующая власть, зависела от него, от его писательского слова — от его похвалы, совета, свидетельства, повествования. Потому что его общественный авторитет и его художественная интуиция, его писательские познания и красочное письмо были действительно достоинствами и заслугами в глазах советской власти...
“Сам Толстой, конечно, помирал со смеху, пиша свою автобиографию, говоря о своей эмигрантской тоске, о тех кошмарах, которые он будто бы переживал в Париже, а во время “первой русской революции” и первой мировой войны “массу” всяческих душевных и умственных терзаний, и о том, как он “растерялся” и бежал из Москвы в Одессу, потом в Париж... Он врал всегда беззаботно, легко, а в Москве, может быть, иногда и с надрывом, но, думаю, явно актерски, не доводя себя до той истерической “искренности лжи”, с какой весь свой век чуть не рыдал Горький” (с. 293). Запомним также эту бунинскую характеристику толстовского таланта: “конечно, помирал со смеху, пиша...”. А вдруг и в самом деле помирал со смеху, когда писал все то, что так забавляло Бунина?.. Особенно если большинство принимало это всерьез.
В свое время А. Толстой и сам пытался рационально объяснить свою политическую беспринципность, свой нравственный и идеологический релятивизм. В “Открытом письме Н. В. Чайковскому”, опубликованном в газете “Накануне” 14 апреля 1922 года А. Толстой перед своим возвращением из эмиграции в СССР признавался “Я представляю из себя натуральный тип русского эмигранта, то есть человека, проделавшего весь скорбный путь хождения по мукам. В эпоху великой борьбы белых и красных я был на стороне белых. Я ненавидел большевиков физически. Я считал их разорителями русского государства, причиной всех бед. В эти годы погибли два моих родных брата, один зарублен, другой умер от ран, расстреляны двое моих дядей, восемь человек моих родных умерло от голода и болезней. Я сам с семьей страдал ужасно. Мне было за что ненавидеть. Красные одолели, междоусобная война кончилась, но мы, русские эмигранты в Париже, все еще продолжали жить инерцией бывшей борьбы. Мы питались дикими слухами и фантастическими надеждами. Каждый день мы определяли новый срок, когда большевики должны пасть, — были несомненные признаки их конца” [с. 58—59].
Все перечисленные здесь обстоятельства не только не закрывали для писателя пути на родину, но, по его ощущению, напротив, логично вели его к возвращению домой. Перебирая наедине со своей совестью и разумом возможные “пути к одной цели — сохранению и утверждению русской государственности”, А. Толстой доказывал (прежде всего самому себе), что для этого существует единственный путь: “...признать реальность существования в России правительства, называемого большевистским, признать, что никакого другого правительства ни в России, ни вне России — нет. (Признать это так же, как признать, что за окном свирепая буря, хотя и хочется, стоя у окна, думать, что — майский день.) Признав, делать все, чтобы помочь последнему фазису русской революции пойти в сторону обогащения русской жизни, в сторону извлечения из революции всего доброго и справедливого и утверждения этого добра, в сторону уничтожения всего злого и несправедливого, принесенного той же революцией, и, наконец, в сторону укрепления нашей великодержавности” [с. 60|.
Так убеждал себя Алексей Толстой, оправдывая свое возвращение в большевистскую Россию. Остаться в эмиграции, ожидая падения большевизма, — путь “безопасный, чистоплотный, тихий, — но это, к сожалению, в наше время путь устрицы, не человека. Герцен жил не в изгнании, а в мире, а нам — лезть в подвал. Живьем в подвал — нет!” Не действовали на Толстого аргументы его оппонентов из эмиграции: что “за большевиками в прошлом террор”, что возвращающийся “соглашается с убийцами”, что у власти должны быть люди, “которым нельзя было бы сказать: вы убили”. Но откуда взять — после революции и гражданской войны — “незапятнанных людей”? И у вчерашнего эмигранта рождается ответ на все неразрешимые вопросы: “...я не могу сказать, — я невинен в лившейся русской крови, я чист, на моей совести нет пятен... Все, мы все, скопом, соборно виноваты во всем совершившемся. И совесть меня зовет не лезть в подвал, а ехать в Россию и хоть гвоздик свой собственный, но вколотить в истрепанный бурями русский корабль. По примеру Петра” [с. 61].
Мы видим, как в одном этом письме, адресованном председателю Исполкома Комитета помощи писателям-эмигрантам, — документе переломном, этапном для А. Толстого, — уже вырисовываются концептуальные контуры двух его главных произведений советского времени — романов “Хождение по мукам” и “Петр Первый”, награжденных — один за другим — Сталинскими премиями. Первый — о русской интеллигенции в эпоху революции и Гражданской войны, о таких ее представителях, как сам Алексей Толстой и ближайшее его окружение, об их колебаниях и заблуждениях, об их физических и нравственных страданиях, об их окончательном примирении и с революцией, и с советской властью, и с большевистским террором — ради возрождения идеи великодержавности, ради “обогащения русской жизни”, ради постепенного “утверждения добра” и “уничтожения зла”. Второй — о самой русской государственности, ее укреплении и обновлении — ценой колоссальных усилий и жертв со стороны масс народа и отдельных личностей, ценой личного вклада каждого — от монарха до последнего мужика; о коллективной (соборной) ответственности всех и каждого за общегосударственное дело, за “русский корабль”, плывущий среди бурь и гроз в исторически неведомую даль.
Обе идеи Толстого — хождения по мукам и пример Петра — совпадали в главном, смыкаясь друг с другом в идее великодержавности. Интеллигенция, отказываясь oт иллюзий самоутверждения отдельных неповторимых личностей, обретала смысл своего совокупного существования в строительстве нового общества, в единстве со всей нацией, со всем народом, — и тогда ее хождения по мукам завершаются, к общему удовлетворению. Пример Петра говорил о том, что великая цель — построение нового могучего государства — требует самоотверженности от всех, и прежде всего от лидера страны, который личной волей, упорством, силой интеллекта преодолевает сопротивление жизненных, в том числе исторических, обстоятельств, побеждает своих оппонентов и врагов, изменяет направление и темпы истории, вторгаясь в область сверхчеловеческих отношений и закономерностей.
Было и третье награжденное произведение А. Толстого (уже посмертно), вытекавшее из письма Н. Чайковскому, — его драматическая повесть “Иван Грозный”. Умирая от рака, писатель 17 января 1945 года подарил ее сыну Никите с надписью: “Это самое лучшее, что я написал” (аналогичные дарственные надписи сделал он в это же время на экземплярах пьесы, подаренных К. Федину, И. Игнатьеву...)29. В ней получила развитие еще одна идея, из числа упомянутых Толстым в письме Н. Чайковскому: “незапятнанных людей” — нет; террор неизбежен и неотвратим, за льющуюся русскую кровь несут ответственность многие; виноваты все скопом (не один Грозный, но и князья-заговорщики); великая цель — создание великого государства — оправдывает всё. (Московское царство стоит на крови.) Обогащение русской жизни в этих условиях, полагает Толстой, состоит, кроме извлечения из нее всего доброго и справедливого, в утверждении этого добра, в уничтожении всего злого и несправедливого, в укреплении великодержавности.
Оставалась, конечно, еще идея своего “гвоздика”, приобретавшая у А. Толстого масштаб знаменитых “клейких листочков”, “Шиллера” или “Ротшильда” — навязчивых идей героев Достоевского. В чем заключался “свой гвоздик”, который “вколотил” “третий Толстой” в Советскую Россию? — это вопрос со многими ответами. Однако сам Толстой, видимо, отчетливо чувствовал “свой гвоздь” — и когда его вынашивал, и тем более — когда его забивал. Главное же, Толстой научился, глядя на “свирепую бурю” через оконное стекло, убеждать себя и других в том, что на самом деле за окном “месяц май”, весна, пробуждение общества...
Многие его современники понимали — еще до каких-либо высказываний на этот счет самого автора, — что роман о Петре — это грандиозная развернутая метафора революции и послереволюционных преобразований в Стране Советов. Прямая параллель между борьбой за власть Петра и Софьи, поддерживаемых, с одной стороны, потешными войсками и стрельцами — с другой, и Гражданской войной в России XX века, в которой новое и старое также столкнулись в смертельной схватке. Не менее прозрачна ассоциация между Петровскими реформами, в ходе которых царь-реформатор “варварскими средствами” искоренял “варварство” на Руси, и сталинским построением социализма. Этот жестокий социализм складывался не из одной индустриализации, коллективизации и культурного строительства, но включал в себя, как необходимую составляющую, раскулачивание, голод, лагеря, показательные процессы над заговорщиками и оппозиционерами, слепой террор, произвол власти и ничем не ограниченный деспотизм Государства.
Наконец, волевая личность Сталина, упорного в достижении своих целей, беспощадного по отношению к врагам, снисходительного и даже щедрого к верным холопам, могла, при известных допущениях и художественных преувеличениях, сопоставляться с колоссальной фигурой Петра, “работника на троне” (пушкинская характеристика) и единовластного тирана, прозорливого устроителя империи и жестокого гонителя инакомыслящих, и такое сопоставление было лестным для вождя, только что достигшего единоличной власти и приступившего к созданию своего культа.
В написанной незадолго до смерти “Краткой автобиографии” (1944) А. Толстой свидетельствовал, что петровская тема занимала его как раз с 1917 года. “С первых же месяцев Февральской революции я обратился к теме Петра Великого. Должно быть, скорее инстинктом художника, чем сознательно, я искал в этой теме разгадки русского народа и русской государственности”. Писатель ссылается на помощь историка В. В. Каллаша, познакомившего его с “актами Тайной канцелярии и Преображенского приказа, так называемыми делами “Слова и дела” [с. 261].
Материал, на который решил опереться в своем романе А. Толстой, поразил его необычностью и в то же время типичностью для России на протяжении трех веков. Писатель так комментировал “судебные акты XVII и ХVIII веков”: “Они писались таким образом: в приказе (в подвале) на дыбе висел допрашиваемый, его пытали, хлестали кнутом, жгли горящим веником. Он говорил безумные слова и чаще всего неправду. Его пытали второй раз и третий раз для того, чтобы совпали показания” [с. 298]. В другом месте: “В судебных (пыточных) актах — язык дела, там не гнушались “подлой” речью, там рассказывала, стонала, лгала, вопила от боли и страха народная Русь” [с. 286]. Столь экзотический и экстремальный материал истории привлекал писателя не только языком, бытовыми деталями, проблесками смутного подсознания эпохи, но и страшной правдой жестокого времени, пробивающейся через ложь, самой взрывоопасной смесью правды и лжи, зла и добра. Несомненно, подразумевал за этим писатель и более современные ему ужасы — революции, Гражданской войны, Большого террора, когда в подвалах ВЧК, ГПУ, НКВД почти теми же средствами выпытывались ложные показания, самооговоры, “чистосердечные признания” обреченных, взятых со всех этажей государства. Но из этих страшных и лживых свидетельств эпохи в конечном счете и складывался ее небывалый по правдивости и глубине образ.
Вообще, объясняя замысел “Петра” — на всем протяжении своей работы над этим историческим сюжетом, А. Толстой постоянно подчеркивал, что пишет “историю современности”. В одном интервью писатель признался, что правы те, кто почувствовал: “Петр I” — это подход к современности с... глубокого тыла” [с. 290]. В другом объясняет то же более пространно: “На “Петра Первого” я нацеливался давно, — еще с начала февральской революции. Я видел все пятна на его камзоле, — но Петр все же торчал загадкой в историческом тумане. Начало работы над романом совпадает с началом осуществления пятилетнего плана. Работа над “Петром” прежде всего — вхождение в историю через современность, воспринимаемую марксистски. Прежде всего — переработка своего художнического мироощущения. Результат тот, что история стала раскрывать нетронутые богатства. Под наложенной сеткой марксистского анализа история ожила во всем живом многообразии, во всей диалектической закономерности классовой борьбы” [с. 295]. Вряд ли, конечно, Толстой верил в то, что говорил, но, несомненно, подобные идеи, с присущей ему изобретательностью, он “вкладывал” в свое творение и получал удовлетворение от парадоксальных результатов “прививки” современности к истории.
Когда А. Толстой рассуждал о “борьбе Петра с дворянской контрреволюцией”, о том, что “Петр становится фокусом приложения действующих сил, становится во главе классовой борьбы между поместным дворянством и нарождающейся буржуазией”, о том, что “в тот час, когда он оказался вне классовой борьбы, он остался один и потерпел крах” [с. 295, 296], — его идеи прямо перекликаются с мыслью Сталина о том, как по мере укрепления социализма обостряется классовая борьба. В позднейшей “Краткой автобиографии” писатель прямо поставил успех своего романа о Петре в зависимость от идей Сталина, от совпадения собственной оценки Петровской эпохи с точкой зрения вождя: “Постановка первого варианта “Петра” во 2-м МХАТе была встречена РАППом в штыки и ее спас товарищ Сталин, тогда еще, в 1929 году, давший правильную историческую установку петровской эпохе” [с. 262]. Сталин “дал установку петровской эпохе” — это, конечно, очень сильно сказано, но такая постановка вопроса — в логике вещей сталинской эпохи. Вождь дает установку всему — настоящему, будущему, прошлому. И Ивану Грозному установку дал Сталин же, особенно когда в беседе с создателями фильма “Иван Грозный” упрекал царя в том, что он “недорезал” пять боярских семейств...
Несомненно, А. Толстой модернизировал Петровскую эпоху, спроецировав ее на современность или, напротив, наложив проекцию современности на историю Петра. Но сделал это он, учитывая художественную меру, не буквально “в лоб”. Роман о Петре не стал романом о Сталине, замаскированном в Петра. Если бы это оказалось так, то у Толстого вышел бы не исторический роман, а политический памфлет, публицистическое эссе, историческая аллегория, и все читатели, включая самого высокопоставленного, отнеслись бы к такому иносказанию как к перегибу, как к дешевой и примитивной лести или как к пародийному выпаду против существующей власти. У Толстого все ассоциации тоньше, глубже. Речь идет лишь о сходстве двух переломных эпох — Петровской и социалистической, лишь о сходстве двух волевых характеров — Петра Великого и великого Сталина. Но, конечно, еще и об одинаково жестокой борьбе — за власть, за победу нового над старым, прогрессивного над реакционным... И о народном энтузиазме, поддержавшем энергичную, революционную инициативу самодержца в том и в другом случае... И об исторической правоте осуществляемого обоими царями дела — правого в той мере, в какой сила была на его стороне, в какой оно безоговорочно побеждало...
Можно сколько угодно рассуждать о модернизации истории, предпринятой Алексеем Толстым в отношении Петровской эпохи, но факт остается фактом: до сих пор все наши представления об этом времени черпаются прежде всего из романа “Петр Первый”, а не из каких-либо более достоверных, научных источников. А. Толстой продемонстрировал победу искусства над исторической наукой, данные которой он активно использовал, правда, в тех пределах, которые диктовала ему его художественная интуиция.
Несомненно, что в модернизации Петровской эпохи А. Толстым было что-то амбивалентное, скрыто-комическое. Очень хорошо чувствовавший сочную фактуру истории, пластичность исторической жизни, писатель отдавал себе отчет в том, что за прошедшее со времени Петра время мало в чем изменилось русское крестьянство или русское чиновничество; вполне узнаваемы русские солдаты и офицеры за пределами Петровской эпохи; многие проблемы, поставленные и решавшиеся Петром, остались во многом неразрешимыми и вечными... Но сам Петр?! Неужели могучий русский великан, отличавшийся вулканической энергетикой и разливом энтузиазма, прямотой характера, ярко выраженной гаммой противоположных эмоций, бурной деятельностью, мог быть хоть в чем-то сопоставлен с маленьким, неловким, косноязычным грузином Сталиным, скрытным, тяготевшим к аппаратным интригам? В самой затее буквального сравнения двух вождей, двух диктаторов, столь отличных друг от друга по росту и поступкам, по фактуре и по характеру, по масштабу личности и по тактике, заключалось какое-то подспудное ерничество, — затаенная насмешка, ирония и сарказм, разумеется, восстанавливаемые только из контекста. История, как известно, повторяется, но... И от великого до смешного... Неправомерность столь желанного сближения двух “царей” России — по зрелом размышлении — была самоочевидной
Советская история, правда, вскоре показала, что смешного в Сталине мало, что в своем роде он не менее страшен, чем Петр, может, даже и более, но и страшен и ужасен по-другому. Если неукротимая ярость или воодушевление Петра шли от широты натуры, от безмерности проявлений жизненных сил, переполнявших титана, от неколебимой веры в себя и уверенности в правоте своего дела, то в Сталине доминировали подозрительность, мстительность, коварство, мелочный расчет, мания самовозвеличивания, в конечном счете инспирируемые чудовищным комплексом неполноценности — инородца, недоучки, второстепенного партийного функционера, задвинутого во второй ряд власти высоколобыми “интеллектуалами” из ленинского окружения.
Граф Толстой, со всеми своими “барскими” замашками, очень хорошо чуял “породу” в человеке. Конечно, в каждом жесте, в каждом поступке, в каждом слове Петра (какими бы незначительными или даже позорными они ни были) у Толстого сквозит его царственное положение и происхождение. И с этим не могут не считаться окружающие — вольно или невольно сознающие дистанцию по отношению к лидеру: как ни поверни — одно слово: Царь. А сын сапожника из полудикого Закавказья, исключенный из семинарии за участие в беспорядках, регионал в дореволюционном партийном представительстве, наркомнац в ленинском Совнаркоме, — за “послужным списком” вождя не вставала никакая “порода” (даже такая сомнительная, как у Троцкого или Зиновьева, не говоря уже о Ленине и особенно Плеханове). И все же сравнение революционеров, большевиков между собой (на фоне Петровского времени) казалось вполне оправданным. Ленин и Сталин, например... Другое дело — Петр. Масштабы личности Петра и Сталина слишком разительны, чтобы всерьез утверждать, что “Сталин — это Петр Первый сегодня”! На фоне Петра, столь лестном на первый взгляд для Сталина, он сам представал (незримо! неявно! недоказуемо!) как явный самозванец, выскочка, узурпатор... Ничтожество с претензиями на всемирно-историческое величие.
Конечно, за два с лишним века изменился сам характер власти в России. В “новом самодержавии” Ленина и Сталина можно было лишь угадать абрис сильной деспотической власти Петра I и Ивана Грозного. И то, если совершенно абстрагироваться от житейских деталей, характерологии, пластики — всего того, что было особенно важно для A. Толстого-художника.
Но было в творчестве А. Толстого и нечто принципиально новое, невиданное прежде в искусстве. Он посмотрел на давно прошедшую историю, так сказать, с “красного угла”, через призму современной ему марксистской теории и сталинистской идеологии, через призму революционного насилия, этой, по выражению Маркса, “повивальной бабки истории”, через кровавую пелену непрекращающегося террора и классовой борьбы. И с точки зрения современности историческое прошлое предстало совершенно по-новому. И Петр, как позже Иван Грозный, предстали перед читателями и зрителями А. Толстого как “красные цари”, как “цари-революционеры”, как прямые предшественники Ленина и Сталина. Выстраивалась прямая, быть может, слишком прямая, логика исторического самоосуществления России — через жесточайшие переломы, через массовые жертвы и террор, через беспощадное самоутверждение тиранов. Получалось, что у России и нет иного пути цивилизационного развития, как искоренение варварства варварскими средствами. “Красный угол истории” оправдывал любые средства на пути к историческому прогрессу, любые жестокости, любой произвол: гибель той или иной личности, того или иного числа людей — все это мелочи в контексте исторического целого и преследуемых великих целей!
Другое дело — современность. Здесь у писателя не было исторической и художественной дистанции по отношению к материалу. Сам материал в эпоху Большого террора был взрывоопасным, а официальное отношение к нему — двойственным, амбивалентным. Любой деятель в области политики, экономики или культуры и даже безответный обыватель мог быть представлен как “скрытый враг”, “вредитель”, “шпион”, а “история” его падения и предательства могла быть “художественно” придумана или выбита из подозреваемого в застенке. И тем не менее Сталин ждал от “красного графа” прямого освещения современности, художественного отображения самого себя — прежде всего в формах открытой, мифологизированной апологетики.
A. Толстой, рассуждая о своей повести “Хлеб” (другое название произведения — “Оборона Царицына”), подчас именовал ее романом и даже объявлял иногда третьей частью эпического цикла “Хождение по мукам”... Впрочем, какое-то чувство художественной меры удержало писателя от включения повести в “Хождение по мукам” и превращения трилогии в тетралогию. Но остается поразительным определение самим автором того места, которое “Хлеб” занимает в его творчестве. “Я пишу почти тридцать лет, — писал А. Толстой в том же зловещем 1937 году, — и должен признаться, что только в последнем, законченном вчера произведении, в “Хлебе”, начинаю находить себя — свой метод, форму, взгляд на жизнь... только подхожу к этому. У каждого писателя — все впереди.
Советские писатели должны видеть, понимать, осваивать самое большое, самое значительное, самое передовое. “Хлеб” — роман о 1919 годе, об осаде и защите Царицына. Изображая гражданскую войну, мы почему-то делали героями маленьких, эпизодических людей. Может быть, в какой-то степени они были характерны для отдельных процессов борьбы. Но смысл, философия, грандиозный взлет народных сил — всего этого не выразишь в маленьких и случайных героях. Их поймешь и осмыслишь только через максимально большие, центральные, узловые, определяющие фигуры эпохи” [с. 351—352].
О чем идет у А. Толстого речь — понятно. Главный герой повести — Сталин. Это он — “максимально большой”, “центральный”, “узловой” персонаж советской эпохи. Как для своего времени — Иван Грозный и Петр, по сравнению с которыми что Курбский или Репнин, что Меншиков или Лефорт — лишь фон. Это они — Сталин, Петр I, Иван Грозный — воплощают “грандиозный взлет народных сил”, смысл всего процесса борьбы, философию каждый раз нового мира. Изображая Сталина как самую значительную фигуру Гражданской войны, как главного ее стратега и полководца, писатель тем самым пересматривает, переписывает всю советскую историю, как бы открывая ее заново — и для себя, и для всех своих читателей.
В конце “Хождения по мукам” Катя, попавшая на съезд ГОЭЛРО, вглядываясь в президиум с пятого яруса Большого театра, спрашивает Рощина: “Где Ленин?” Рощин отвечает и от себя добавляет: “А с краю — худощавый, с черными усами — Сталин, тот, что разгромил Деникина...” Вряд ли без “Хлеба” появилась бы в “Хмуром утре” эта знаменательная фраза. Понятно и то, почему автор чувствовал себя обязанным заявить, что только в романе “Хлеб” он впервые обретает “свой метод, форму, взгляд на жизнь”, впервые находит себя как писатель и мыслитель, — соприкосновение с личностью вождя само по себе рождает сопричастность великому человеку и великой эпохе, поднимает писателя над самим собой. А оказавшись в роли историка, совершающего первооткрытие эпохи, писатель невольно поднимался в глазах окружающих и в своих собственных — до уровня Творца истории, становился почти что Вседержителем бытия...
Однако история в “Хлебе” творится как-то странно, — повседневность происходящего нарочита до комизма. Вот эпизод из Начала Истории, в котором впервые появляется Сталин... Смольный, бывший институт для благородных девиц. Комната классной дамы. Ленин пришел сюда, чтобы погреться и созвониться по телефону со Свердловым. Пока охраняющий его “человек с ружьем” Иван Гора (перешедший из “Хлеба” в “Хождение по мукам” и погибший на страницах трилогии) пытается починить телефон, Ленин “приоткрыл дверцу буфета. На полках две грязные тарелки, две кружки — и ни одной сухой корочки. У них с Надеждой Константиновной только в феврале завелась одна старушка — смотреть за хозяйством. До этого случалось — весь день не евши: то некогда, то нечего.
Ленин закрыл дверцу буфета, пожав плечом, вернулся на диван к листкам. Иван Гора качнул головой: “Ай, ай, — как же так: вождь — голодный, не годится”. Осторожно вытащил ломоть ржаного, отломил половину, другую половину засунул обратно в карман, осторожно подошел к столу и хлеб положил на край и опять занялся ковыряньем в телефонном аппарате.
— Спасибо, — рассеянным голосом сказал Владимир Ильич. Продолжая читать, — отламывал от куска”.
Не правда ли, трогательная идиллия! Первозданная простота и бедность, явно шаржированная. Вождь, питающийся “святым духом”. Народная мудрость: “Вождь — голодный, не годится”! Человек из народа делится с вождем последним куском хлеба. И — грязь, запущенность во всем. Непонятна лишь роль упоминаемой вскользь Надежды Константиновны до “заведения” “одной старушки”... Вот сейчас появится главный герой книги: исторический миг!
“Дверь, — ведущая в приемную, где раньше помещалась умывальная для девиц и до сих пор стояли умывальники, — приоткрылась, вошел человек, с темными стоячими волосами, и молча сел около Ленина. Руки он стиснул на коленях — тоже, должно быть, прозяб под широкой черной блузой. Нижние веки его блестевших темных глаз были приподняты, как у того, кто вглядывается в даль. Тень от усов падала на рот”. Это Сталин. Он узнается читателем прежде всего по взгляду, устремленному вдаль. Вождь прозревает будущее страны, не вполне ясное самому Ленину. Сталин видит дальше.
Как и положено верному и скромному ученику, Сталин поначалу молчит, как красная девица, пришедшая прямо из умывальной к своей “классной даме” слушать нравоучения. Трудно допустить, что Сталин не знает политических прописей, которые ему излагает Ленин, — плоских сентенций о Троцком, о немцах, о революции. Ленин, например, говорит своему соратнику об Октябре:
“События крупнее и важнее не было в истории человечества...” (На это трудно что-либо возразить или вообще ответить.)
“Сталин глядел ему в глаза, — казалось, оба они читали мысли друг друга”. Ленин что-то зачитывает по своим листочкам, и Сталин время от времени ему “твердо кивает”. Как собака, которая все понимает в словах хозяина, но только не может ответить. Наконец, Сталин берет слово и подводит лаконичный итог всем ленинским рассуждениям относительно текущего момента:
“То, что германский пролетариат ответит на демонстрацию в Брест-Литовске немедленным восстанием, — это одно из предположений — столь же вероятное, как любая фантазия... А то, что германский штаб ответит на демонстрацию в Брест-Литовске немедленным наступлением по всему фронту, — это несомненный факт...” Мудро сказано. По-сталински просто и лаконично. И толстовскому Ленину ничего не остается, как признать:
“Совершенно верно...”
Вся эта сцена, в современном прочтении, предстает чуть ли не пародийно. Схематизм ситуации, стилистические штампы, условные речи персонажей, явная предсказуемость слов, поступков, выводов кажутся нарочитыми — тем более для обычно столь изобретательного Толстого. Боялся писать о вождях или боялся не писать о них? Осторожничал, неловко нащупывая подходящие слова?
И вдруг осеняет — Бунин же предупреждал относительно заказных произведений Толстого: “конечно, помирал со смеху, пиша...”. В том числе и эпопею о Ленине и Сталине, особенно представляя, как всерьез будут ее воспринимать в контексте “Хождения по мукам” — как третий том романа. Не без гордости Толстой признавался в “Краткой автобиографии”: “Любопытно, что “Хлеб”, так же как и “Петр”, может быть, даже в большем количестве, переведен почти на все языки мира”. Отвечая на упреки в сухости и “деловитости” “Хлеба” и объясняя свой замысел, Толстой писал, что “... “Хлеб” был попыткой обработки точного исторического материала художественными средствами; отсюда несомненная связанность фантазии”. И тут же с вызовом заявляет: “без дерзаний нет искусства” [с. 263]. Значит, в “Хлебе”, по мнению автора, было “дерзание” — сравнительно с “Петром” и трилогией! Если действительно граф “помирал со смеху, пиша”, — еще какое “дерзание”, весьма рискованное. Только кто бы догадался? Иван — в Париже и наверняка в письмах, которые, как он знает, в СССР перлюстрируются, откровенничать не будет... А остальные — даже в голову не придет! А сам — “ржавым шилом”...
Конечно, литератор-эмигрант вспомнил бы одну занимательную аллюзию. В сборнике рассказов Арк. Аверченко “Дюжина ножей в спину революции” (Париж, 1921) есть один рассказ, особенно не понравившийся Ленину, откликнувшемуся на сборник рецензией “Талантливая книжка” (“Правда”, 22 ноября 1921 года), — “Короли у себя дома”. Рассказ этот — о Ленине и Троцком. Собственно, почему он не понравился “прототипу” одного из персонажей — вполне понятно. Мало кому нравятся сатирические произведения о себе. Всегда говорится, что и неправда все, и вовсе не так остроумно, как думает автор, и не похоже, и не в точку, и совсем не это главное... Вот и Ленин написал, что Аверченко — “озлобленный почти до умопомрачения белогвардеец”, что его “до кипения дошедшая ненависть вызвала и замечательно сильные, и замечательно слабые места этой высокоталантливой книжки”. “Когда автор свои рассказы посвящает теме, ему неизвестной, выходит нехудожественно. Например, рассказ, изображающий Ленина и Троцкого в домашней жизни. Злобы много, но только не похоже, любезный гражданин Аверченко! Уверяю вас, что недостатков у Ленина и Троцкого много во всякой, в том числе, значит, и в домашней жизни. Только, чтобы о них талантливо написать, надо их знать. А вы их не знаете”30.
Претензии Ленина кажутся сегодня по меньшей мере неадекватными. Можно подумать, что Аверченко и в самом деле хотел высмеять домашнюю жизнь Ленина или Троцкого! В преамбуле рассказа читаем: “Я хорошо знаю, что в своей частной, интимной жизни коронованные особы живут так же обывательски просто, как и мы, грешные”. И Ленин с Троцким предстают в рассказе Аверченко как “простые обыватели”, лишенные героического или мученического нимба, — в том смысле, что эти фигуры, окутанные плотной пеленой легенд, мифов, догадок, впервые демистифицировались, представая в сниженном, забытовленном виде. Но Аверченко и не требовалось для сатиры “знать” какие-то детали и подробности из “домашней жизни” королей, поскольку не об этом шла речь.
“Домашняя жизнь” понимается в переносном смысле, как политическая “кухня”, например, или “кулисы”. Аверченко живописует политический союз Ленина и Троцкого как “удивительный супружеский союз”. Действие разворачивается посреди Грановитой палаты в Кремле, где будто бы поселились советские “короли”. В ходе кухонных свар “супруги” выясняют отношения, упрекают друг друга в недостаточном внимании или во взаимном надоедании, ревнуют друг друга... Троцкий “ревнует” Ленина к Луначарскому, а Ленин, упрекая Троцкого, жалеет, что не пошел замуж за этого “соглашателя” (ведь в союзе Троцкого и Ленина Троцкий — муж, “главное, сильное, мужское начало”, а Ленин — жена, “madame, представитель подчиняющегося, более слабого, женского начала”). Вот что задело Ленина в рассказе Аверченко: оказывается, со стороны кажется, будто “командует парадом” в Советской России “Иудушка Троцкий”, а вовсе не сам Ильич! А Ленин — просто баба, разливающая Троцкому чай, стирающая ему носовые платки, накладывающая папиросы в портсигар... На вторых, а то и третьих ролях... Еще бы понравилось!
А. Толстой явно пародирует этот сюжет в “парных” сценах Ленина и Сталина (“негодяев, засевших в Кремле”). Частная жизнь “коронованных особ” еще более снижена, доведена до условного примитива. “Домашние” отношения Ленина и Сталина одновременно и приглажены, и пародийны. Правда, это уже не муж и жена (как Троцкий с Лениным у Аверченко), а скорее мать и дочь, “классная дама” и “благородная девица” из Смольного. Получается не менее комично. “Классная дама” читает девице мораль, та — послушно внимает, теребя фартучек пальчиками, кивает...
Сталин с Лениным часто изображаются Толстым vis-а-vis. Ленин всегда спрашивает — Сталин отвечает и, отвечая, всегда верно предсказывает будущее. Ленин возбужден, Сталин спокоен, ибо уверен в результате, ибо гениально предсказывает ход истории. “В минуты передышки Владимир Ильич, навалясь локтями на кипы бумаг на столе, глядел в упор в глаза Сталину:
— Успеем? Немецкие драгуны могут уже завтра утром быть у Нарвских ворот.
Сталин отвечал тем же ровным, негромким, спокойным голосом, каким вел все разговоры:
— Я полагаю — успеем... Роздано винтовок и пулеметов... — Он прочел справку. — Немецкое командование уже осведомлено о настроении рабочих... Шпионов достаточно... С незначительными силами немцы вряд ли решатся лезть сейчас в Петроград”. И все так и выходит — по Сталину.
А вот как рисует А. Толстой историю Брестского мира. “Троцкий пошел на телеграф. По прямому проводу он сообщил Ленину об угрожающей обстановке, он спросил: “Как быть?”
В ответ на ленточке, бегущей из аппарата, отпечаталось:
“Наша точка зрения вам известна. Ленин. Сталин”.
Делегаты, стоя тесной кучкой на снежном дворе, нервно курили. Талый ветер относил дым. Глядели, как Троцкий появился на крыльце почты, остановился, застегивая на горле пальто, пошел по желтой от песка дорожке. Делегаты наперебой стали спрашивать, что ответил Владимир Ильич...
Широколобое, темное лицо Троцкого, окаменев, выдержало минутную паузу, затем прямой, как разрез, рот его разжался:
— Центральный комитет стоит на моей точке зрения. Идемте...”
Наступает кульминационная сцена. “Было ясно, что в эти минуты решается судьба России. Председатель советской делегации, с волчьим лбом, татарскими усиками, черной — узким клинышком — бородкой, стоял в щегольской визитке, боком к столу, подняв плечи супрематическим жестом, — похожий на актера; загримированного под дьявола.
Упираясь надменным взглядом через стекла пенсне в германского статс-секретаря фон Кюльмана, — у которого в кармане пиджака лежала телеграмма Вильгельма об ультиматуме, — Троцкий сказал:
— Мы выходим из войны, но мы отказываемся от подписания мирного договора...
Ни мира, ни войны! Как раз то, что было нужно немцам, — эта неожиданная шулерская формула развязывала им руки.
Так Троцкий нарушил директиву Ленина и Сталина, совершил величайшее предательство: советская Россия, не готовая к сопротивлению, вместо мира и передышки получила немедленную войну. Россия была отдана на растерзание”.
В сталинском “Кратком курсе истории ВКП(б)” этот эпизод уже можно было пересказать просто, без прикрас: “Эти люди явно играли на руку германским империалистам и контрреволюционерам внутри страны, так как вели дело к тому, чтобы поставить молодую, не имевшую еще армии Советскую республику под удар германского империализма. Это была какая-то провокаторская политика, искусно маскируемая левыми фразами. 10 февраля 1918 года мирные переговоры в Брест-Литовске были прерваны. Несмотря на то, что Ленин и Сталин от имени ЦК партии настаивали на подписании мира, Троцкий, будучи председателем советской делегации в Бресте, предательски нарушил прямые директивы большевистской партии. Он заявил об отказе Советской республики подписать мир на предложенных Германией условиях и в то же самое время сообщил немцам, что Советская республика вести войну не будет и продолжает демобилизацию армии. Это было чудовищно. Большего и не могли требовать немецкие империалисты от предателя интересов Советской страны”31.
Весь приведенный у А. Толстого эпизод ужасно иллюстративен, схематичен. Ленин—Сталин неразлучны как близнецы, у них одна точка зрения. Противоположная — у Троцкого. Меткий и выразительный портрет “мирового злодея” по-толстовски живописен: в нем есть и что-то волчье, и что-то татарское (намек на “татарское иго”?), и что-то барское (“щегольская визитка”), и нарочитая театральность, и нечто от авангарда 20-х годов (“Черный квадрат” Малевича), и в целом демоническое (хотя как бы невсерьсз)... Все свое незаурядное мастерство Толстой использует на “раскраску” готового абриса, идеологически заданного. Ни одной оригинальной мысли, ни одной своей догадки не сквозит за повествованием о Брестском мире. Автор, предстающий исследователем в “Петре”, в “Хлебе” демонстративно “отдыхает”: это всего лишь пассивный наблюдатель, хотя и очень зоркий, но из-под его пера подчас выходят фразы, словно взятые напрокат из передовицы “Правды”. Творческая фантазия художника парализована. Кажется, что он даже боится своего художественного вымысла: а ну как фантазия его заведет в область недозволенного? Приходится направлять свой художественный вымысел в сферу “дозволенного”. Можно о Троцком, о Савинкове, о генералах Корнилове, Краснове, Деникине... Зато можно дать волю своему презрению и ненависти: “ржавым шилом” расправляется А. Толстой с “дозволенными” ему персонажами.
Б. Сарнов, пытаясъ объяснить художественные неудачи конъюнктурного “Хлеба”, считает, что “А. Н. Толстой был органически неспособен писать по заказу. Не то что навязанная извне, готовая историческая и идеологическая схема, но даже им самим набросанный план будущей вещи нагонял на него смертельную скуку. А скука, сказал он однажды, “вернейший определитель нехудожественности”. Что же касается таких вещей, как “Петр Первый”, то здесь, пишет Б. Сарнов, “официальная концепция по счастливой случайности совпала с его собственной”; “его отношение к Петру было искренним”. “Сталин был не одинок в своем стремлении увидеть в Петре деятеля не только предвосхитившего, но в чем-то предопределившего события большевистской революции”32.
Впрочем, можно допустить и иное объяснение творческой находки, продемонстрированной Толстым в повести “Хлеб” (в отличие от “Петра”): это было не поражение талантливого художника, а сознательный псевдохудожественный прием, продемонстрированный мастером для тех, кто “имел уши”. Великолепный стилизатор, мастерски владевший речью своих персонажей, Толстой в своем “Хлебе” сознательно явил стертый, безликий, почти газетный язык, не столько подлаживаясь под советский стандарт (хотя и подлаживаясь тоже), сколько подтрунивая над бедным языком большевистского официоза, над примитивными соцреалистическими схемами и клише, наводнившими советскую литературу. Вспомним Бунина: тот недаром ведь с удовольствием отмечал, как “Алешка” в 1936 году “откровенно насмехался над своим большевизмом”. Так и в “Хлебе”, — профанируя пролетарски-большевистский стиль, Толстой по привычке иронизировал не только над казенной скукой, но и над самим собой, живописующим “историю современности” и оправдывающим “красное самодержавие” ради собственного “куска хлеба” (с маслом): мол, “хлеб наш насущный даждь нам днесь...”.
Впрочем, нет, все это, конечно, характерное толстовское юродство; на самом-то деле он чувствует себя избранным Евангелистом, занимающимся “изысканием реальности корней нового Нового Завета” [с. 473], как он признается в 1943 году К. Чуковскому. Уж кто знал толк в иносказаниях, так это автор “Крокодила”, “Тараканища”, “Мойдодыра” и “Федорина горя”! Однако — вольно или невольно — у А. Толстого евангелический тон и жанр притчи нигде не выдерживаются до конца: помпезная апологетика все время смешивается с пародией, велеречивая агитка сплетается с пошлым анекдотом, затейливая агиография нет-нет да и обернется нахальной хохмой, скрытой насмешкой. И все — на полутонах, намеком. То ли сказано, то ли нет, — просто почудилось...
И тем не менее после Алексея Толстого спецкомиссия ЦК ВКП(б) под председательством лично товарища Сталина могла уже, “ничтоже сумняшеся”, слагать историю Гражданской войны в духе “Хлеба”: “Для организации разгрома Деникина ЦК направил на южный фронт товарищей Сталина, Ворошилова, Орджоникидзе, Буденного. Троцкий был отстранен от руководства операциями на юге. До приезда тов. Сталина командование южного фронта совместно с Троцким разработало план, по которому главный удар наносился Деникину от Царицына на Новороссийск, через донские степи, где Красная армия встретила бы на своем пути полное бездорожье и должна была проходить по районам с казачьим населением, значительная часть которого находилась тогда под влиянием белогвардейцев. Тов. Сталин подверг резкой критике этот план и предложил ЦК свой план разгрома Деникина: направить главный удар через Харьков—Донбасс—Ростов. Этот план обеспечивал быстрое продвижение наших войск против Деникина, ввиду явного сочувствия населения на пути продвижения нашей армии через рабочие и крестьянские районы... Центральный Комитет партии принял план тов. Сталина”33.
Так, созданный Алексеем Толстым, по заказу Сталина, миф о роли вождя в истории Гражданской войны укоренился в науке и массовом общественном сознании. В 1938 году А. Толстой был награжден орденом Ленина, — но не за повесть “Хлеб”, не за косвенное участие в создании “Краткого курса” истории партии, а за сценарий кинофильма “Петр I”. Все понимали, что это один сценарий — посвященный не “тривиальному хрестоматийному образу “венценосного плотника”, а значению “личности человека, возвысившегося над своей эпохой” [с. 343]. Кто был такой личностью среди современников писателя — все знали, и об этом не нужно было много говорить. Однако скрытого внутреннего смеха (невидимого на фоне акцентированной апологетики, видимой миру) никто, к счастью для писателя, не заметил. Впрочем, для Толстого сам этот “невидимый миру смех” был лишь своеобразным самоутешением, так сказать, “кукишем в кармане” — на фоне слишком “видимой миру”, даже нарочито аффектированной — для всеобщего обозрения — конъюнктуры.
3. “ВОЗВЫШЕНИЕ НАД ЭПОХОЙ”, ИЛИ “БЕГСТВО ОТ”
Это вещи уникальные, диковинные, фольклорные, экзотические, старинные. Они как будто противоречат требованиям функциональной исчислимости, соответствуя желаниям иного порядка — выражать в себе свидетельство, память, ностальгию, бегство от действительности. Однако, при всем своем отличии, такие вещи тоже включаются в современную цивилизацию и в рамках ее обретают свой двойственный смысл.
Старинная вещь всегда как бы “подпирает стену”; будь она сколь угодно красивой, она все равно остается “эксцентричной”, и даже при всей своей подлинности в чем-то кажется подделкой. Да она и действительно подделка, постольку поскольку выдает себя за подлинную в рамках системы, основанной отнюдь не на подлинности, а на абстрактно-исчислимом знаковом отношении.
Жан Бодрийяр. “Система вещей” (1968)34.
Как известно, Алексей Толстой любил старинные вещи, коллекционировал их, окружал ими свой быт и творчество, даже тяготел к несколько искусственной стилизации аристократического интерьера и барского антуража. Известно, что в последние годы жизни А. Толстой увлекся и фольклором: он возглавил в Академии наук комиссию по изданию “Свода русского фольклора”, курировал издания памятников фольклора других народов СССР, сам обработал сборник русских народных сказок. Этот же ряд толстовских увлечений стариной продолжает в его творчестве и пристрастие к историческим сюжетам. В подобной нарочитости старины можно усмотреть и его всегдашнюю склонность к театрализации жизни и театральности поведения, и эпатирующую привязанность бывшего графа к дореволюционной роскоши, и вседозволенность “советской знати”, могшей и при Сталине “шикнэть” помещичьим бытом. Однако за всем этим коллекционированием музейной архаики А. Толстым видится и нечто гораздо более глубинное — его уход в идеализированное, отчасти придуманное прошлое, бегство от страшной повседневности в символическую реальность отдаленной истории. “История” у Толстого явно “подпирала стену” современности, поневоле выступая как “экзотика” социалистического строительства, как “старинная вещь”, как некий “коннотат”.
Ни у кого не должно было быть сомнений в том, что “красный граф” служит советской власти со всем возможным тщанием. Но в то же время каждый вдумчивый и искушенный читатель “третьего Толстого” мог понять, что не все так просто обстоит с этим “служением”. Сам А. Толстой (в его собственных глазах — прежде всего), несомненно, был человеком, “возвысившимся над своей эпохой”, — потому, что понял природу любой власти, в том числе и власти советской. “Тайна советской власти”, догадывался писатель, состояла в том, что никакой тайны здесь на самом деле и не было — лишь иллюзия тайны, иллюзия власти, горизонт кажимостей... Ничем эта власть особенным не отличалась от любой другой, и прежде всего от русского самодержавия. И никакой в этом ее собственной заслуги не было: такова была логика русской истории, таков был сам русский народ, таков был русский характер, знатоком которого считал себя Толстой. А вот художник был в силах эту власть превознести и уронить, оправдать и обвинить, приукрасить и осмеять, если того захочет! И когда нужно — поддержать.
Особенно актуально это стало во время Великой Отечественной войны. Недаром во всех своих официальных статьях, речах, интервью А. Толстой подчеркивал, что трилогию “Хождение по мукам” он закончил 22 июня 1941 года, в день начала страшной войны (что, как известно, не вполне соответствует действительности). Писателю хотелось, чтобы все знали, что точку в хождениях интеллигенции по мукам поставила народная война. Именно война отодвинула советскую власть и партийное руководство страны на второй, третий, четвертый план. На первое место в истории вышли: чувство национального достоинства, оскорбленное коварным агрессором, разгневанный народ, воюющие люди — солдаты и военачальники, “русский характер”... Именно война поставила интеллигенцию в один ряд с народом — как воплощение его совести, его разума, национального самосознания, гордости, чести, славы — и духовно распрямила ее. Отныне удел интеллигенции не заискивание перед казавшейся всесильной властью, не прислуживание ей за одно лишь то, что она — Власть, а снисхождение к ней, если она отвечает интересам и чаяниям народа. С началом войны народ, власть и интеллигенция оказались не на разных полюсах исторического бытия, а в общем поле — битвы.
Определяя тему трилогии, Толстой говорил в 1943 году, что “это потерянная и возвращенная родина”. “Хождение по мукам” — это хождение совести автора по страданиям, надеждам, восторгам, падениям, унынию, взлетам — ощущение целой огромной эпохи, начинающейся преддверием первой мировой войны и кончающейся первым днем второй мировой войны” [с. 374—375]. Но к своей совести художника Толстой апеллировал и когда сочинял свою “драматическую повесть “Иван Грозный”, весьма своеобразную по отношению к исторической правде и действительно, на редкость малосценичную (для А. Толстого, во всяком случае). В 1944 году в “Краткой автобиографии” писатель заявил, что повесть эта “была моим ответом на унижения, которым немцы подвергли мою родину. Я вызвал из небытия к жизни великую страстную русскую душу — Ивана Грозного, чтобы вооружить свою “рассвирепевшую совесть” [с. 264]. Рассвирепевшая совесть художника подсказала Толстому представить Ивана Грозного ответчиком за все беды и испытания русского народа: за отпор хищным иноземным агрессорам с Востока и Запада; за боярскую смуту, проникнутую алчным властолюбием и корыстным эгоизмом; за измену царских сподвижников, поступающих в услужение враждебным западным державам, сдающихся крымским завоевателям или уходящих в монастырь в тот самый момент, когда их усилия особенно нужны государству, переживающему смертельную опасность. Удивительно ли, что правой рукой и наперсником Ивана в повести Толстого предстает палач Малюта Скуратов, внушающий ужас одним видом своим всем, “в ком совесть нечиста”?
В этом, последнем завершенном произведении советского классика много загадочного. Загадочна связь между фашистскими зверствами, унижающими родину, и Иваном Грозным, ее вроде бы возвышающим; между “рассвирепевшей совестью” художника, оскорбленного действиями фашистских варваров, и “великой страстной русской душой” его героя, никого и ничего не жалеющего ради утоления своих необузданных страстей. Неясна связь между личным творческим интересом писателя к эпохе и личности Ивана Грозного (отмечаемым с 1935 года) и “социальным заказом”. Пьеса о Грозном была в самом деле заказана Толстому Комитетом по делам искусств (1938) по инициативе Сталина, а затем и лично самим вождем. По свидетельству главного редактора газеты “Красная звезда” Д. И. Ортенберга и последней жены писателя Л. И. Толстой35, Сталин в 1943 году дважды специально беседовал с Толстым о повести — по телефону, а возможно, даже и встречался с ним по этому поводу. За эту повесть А. Толстой был вознагражден посмертно, в 1946 году, третьей Сталинской премией. Можно не сомневаться: А. Толстой явно “угодил” своей повестью Хозяину, оправдав его в лице Ивана Грозного перед потомством.
О. Ивинская вспоминала о реакции Б. Пастернака на сочинение художественных апологий Ивану Грозному. “Говоря об “Иване Грозном” Эйзенштейна, Б. Л. возмущался попыткой оправдать и возвеличить опричнину:
— Какая подлость! Какие они свиньи — и Эйзенштейн, и Алексей Толстой, и эти все. Я с ними не мог общаться, на многие годы почти отказался от встреч с людьми. Я не терплю нашей интеллигенции за раболепие перед силой и половинчатость. Это какие-то полулюди!”36 Все это было верно и справедливо, — отчасти. В созданиях и С. Эйзенштейна, и А. Толстого было по крайней мере два дна, а то и три. Политическая конъюнктура составляла лишь самый поверхностный, наружный слой смысла толстовской дилогии.
Самым загадочным в этом творении А. Толстого было его, можно сказать, полное и демонстративное расхождение с общепринятой историей: прямо-таки вызывающее нарушение хронологии, авторский произвол в интерпретации поведения и слов исторических лиц, пересмотр традиционных репутаций и характеров героев, устоявшихся оценок событий и поступков, подчас откровенное выдумывание исторических фактов и тенденций. Вызов Толстого истории был тем более очевиден, что Толстой постоянно работал с историческими источниками, с научно-исторической литературой, что почти вся его домашняя библиотека представляла собой собрание книг по истории, а значит, ошибки и искажения не могли не быть нарочитыми, сочиненными.
Вся эта историческая эксцентриада и буффонада не осталась незамеченной просвещенными современниками Толстого. Особенно возмущен и, кажется, даже оскорблен сочинением истории, которое предпринял А. Толстой, был акад. С. Б. Веселовский, в свое время много творческих сил уделивший эпохе Ивана Грозного и дошедшим до нас ее документальным свидетельствам. Делая вид, что “не понимает” причин всяческого возвышения и поэтизации Ивана Грозного в 40-е годы XX века в сталинском Союзе, С. Веселовский “вслух” недоумевал, почему “реабилитация личности и государственной деятельности Ивана IV есть новость, последнее слово и большое достижение советской исторической науки. Но верно ли это? Можно ли поверить, что историки самых разнообразных направлений, в том числе и марксистского, 200 лет только и делали, что заблуждались и искажали прошлое своей страны, и что только “сравнительно недавно” с этим историографическим кошмаром покончено и произошло просветление умов”. Мрачно, без тени юмора, академик констатировал: “...новостью является только то, что наставлять историков на путь истины “сравнительно недавно” взялись литераторы, драматурги, театральные критики и кинорежиссеры”37. Однако неудивительно, что самая невинная из трех его историографических статей была опубликована лишь посмертно, в 60-е годы, а статья об А. Толстом — и вовсе в разгар “перестройки”, в 1988 году.
В этой статье — “О драматической повести “Иван Грозный” А. Н. Толстого”, написанной по горячим следам премьеры пьесы в Малом театре (май 1945 года), в августе того же года, С. Веселовский не скрывал своего негодования по поводу произведения покойного коллеги по Академии наук. “Мы привыкли называть повестью такое художественное произведение, в котором есть та или иная фабула. В повести Толстого фабулы нет, и вся она состоит из ряда картин, связанных между собой только личностью главного действующего лица — Ивана Грозного. По существу повесть А. Н. Толстого есть серия эпизодов, характеризующих Грозного-царя. При такой постановке художественной задачи автор, естественно, не находил нужным считаться с исторической последовательностью событий и фактов. Это не могло не отразиться очень неблагоприятно на историчности произведения А. Н. Толстого, т. е. на соответствии его со всеми достижениями исторической науки. Действующие лица повести носят исторические имена, но они говорят такие речи и совершают такие поступки, которых не могли говорить и делать те лица, именами которых пользуется автор” (с. 35).
Примеры нарушений исторической правды А. Толстым, к которым апеллирует историк, поражают воображение. Отдельные картины — из первой и второй частей драматической повести — отличаются таким “хронологическим смещением исторических лиц”, что имеют “характер вызова исторической действительности”. Так, в 10-й картине I части действует “целый сонм выходцев с того света” (называется 6 человек); в действии пьесы совмещены события, относящиеся к 1563, 1564, 1565, 1568, 1569, 1570, 1574 годам (с. 35—36). Такие же контаминации истории наблюдаются и во II части дилогии. В первых же ее картинах совмещены события и действующие лица с 1565 по 1572 год (с. 37). В довершение всего выясняется, что А. Толстой часто пользуется тенденциозными, сомнительными и непроверенными сведениями, как правило, инициировавшимися самим Иваном с целью компрометации своих врагов и оправдания своего террора. В других же случаях те или иные действия или слова историческим лицам приписывает художественная фантазия А. Толстого.
С. Веселовский с нескрываемым раздражением писал: “Достаточно хотя немного разобраться в этом ералаше исторических лиц, чтобы убедиться в недопустимости такой свободы творческой фантазии” (с. 36). “...Автор пользуется историческими именами, как этикетками или ярлыками, чтобы придать историческую правдоподобность вымышленным им лицам, и не хочет признавать никаких границ своей творческой фантазии” (с. 37). “В психологической характеристике этих (исторических. — И. К.) лиц, в оценке их поступков и исторического значения автор в известных пределах волен, но совершенно недопустимо приписывать историческим лицам такие речи и поступки, которых они не могли говорить и делать ни при каких условиях. Этой самоочевидной и бесспорной истины А. Н. Толстой не желает признавать” (с. 39—41). “Неудивительно после этого, что с такой же свободой А. Н. Толстой пользуется не только лицами, но и историческими событиями, и не какими-нибудь мелкими, а очень значительными в нашей истории” (с. 37).
Это же касается и исторических условий, и бытовых деталей, речевых характеристик, которые романист понимает так же условно, как и изображаемые им характеры, и с которыми обращается “с такой же бесцеремонностью” (с. 37). Как отмечал С. Веселовский, “А. Н. Толстой употребляет прием вульгаризации, упрощенчества, доходящего до карикатуры”. Так, например, “двор московских государей, где все были приучены к чинопочитанию, где все было подчинено веками сложившимся обычаям, в изображении А. Н. Толстого очень часто смахивает на проходной двор или сельский кабак, открытый днем и ночью для всякого гулящего ярыжки” (с. 39). В целом же, как подчеркивает историк, “Алексей Николаевич ... обращается с исторической правдой с непозволительной “свободой”, немотивированно, без всякой необходимости сочиняет то, чего не было и не могло быть, и в результате его повесть оказывается переполненной не живыми людьми, а куклами с этикетками исторических лиц” (с. 46).
Согласимся с С. Б. Веселовским: повесть А. Толстого сочинена для “кукол с этикетками исторических лиц”, и сочинена так нарочно. Но с какой целью? Почему? Что хотел сказать драматург, сознательно сближая двор московских государей, с его чинопочитанием и сложившимися обычаями, и “проходной двор”, “сельский кабак” с “гулящими ярыжками”? Что в XX веке “двор московских государей” именно таков, и в этом вся разница между эпохой царя Ивана и сталинской эпохой? Что чинопочитание нисколько не исключает “нарочитой грубости и бесцеремонной фамильярности”, а “веками сложившиеся обычаи” хорошо сочетаются с “невысоким уровнем культуры людей” как того, так и этого времени (с. 39)?
Ученый критик толстовской драмы подчеркивал, что многие речи центрального персонажа, полные велеречивой риторики и трагедийного пафоса, резко контрастируют с почти “балаганной” атмосферой целого (толчеей массовых сцен, нагромождением сугубо “театральных” сценических эффектов, едва ли не карикатурными преувеличениями и шаржированными подробностями). Но более всего С. Веселовского поражает ответ А. Толстого на замечания историков после первой читки повести в Институте истории в Ташкенте. Когда “некоторые историки решились заметить А. Н. Толстому о нежелательности пользоваться так свободно историческими именами”, то “Толстой возразил: а не все ли вам равно?” С. Веселовский сослался и на собственное выступление в присутствии писателя, где, в полемике с ним, отвечал, что ему “совершенно безразлично, какие имена употребляет автор в романе или драме из жизни Вампуки, невесты африканской, но далеко не все равно, как обращается автор художественного произведения на исторические темы с историческими именами” из российского прошлого. “Эти замечания и возражения, — продолжал Веселовский, — Толстой оставил без внимания и во второй части своей повести обращается с историческими лицами с такой же бесцеремонностью, как и в первой” (с. 37).
Тем самым писатель наглядно продемонстрировал ученым, что ему как художнику, мыслителю, гражданину и в самом деле совершенно “все равно”, как обращаться с “историческим материалом”, который для него не более чем некий условный “строительный материал”. Более того, сама новаторская идея замысла Толстого, собственно, и заключалась в том, что ему как писателю было действительно все равно, как это было в истории “на самом деле” и было ли вообще. А “не все равно” было, что так написал писатель Алексей Толстой.
Разумеется, в конечном счете А. Толстой склонялся к выводу, что никакой “исторической правды” в действительности нет, и единой “правды” — тоже нет. Одну “правду” выпытали кнутом и горящим веником на дыбе; другую диктовала личная корысть или родовая заносчивость (у тех же бояр-вотчинников, вроде князей Курбского, Оболенского-Овчины или Репнина, ратующих против “деспотизма” Москвы и желающих “целовать крест” — лишь самим “себе!”). Своя правда, и убедительная, была и у царя Ивана. Какую выбрать, если при этом помнить, что все “правды” одновременно и “неправды” тоже? Несомненно — ту, которая в конечном счете победила. А победило в русской истории самодержавие, созданное Иваном Грозным и укрепленное Петром. А в XX веке восстановленное Иосифом Сталиным. Вечная власть в России. Как говорил в свое время “Алешка” Толстой Бунину: “Сапоги бы целовал у всякого царя”... Пришлось целовать сталинские.
Мстительность и жестокость Ивана можно понять и оправдать, если предположить, что удельные князья, на чьи интересы наступил самозванный самодержец, шли на все ради своей победы — на покушения, отравления, измену, сговор с внешними врагами, не брезгая никакими, даже самыми низкими и подлыми, средствами. Поддержку Ивана простым народом понять также нетрудно: царь борется с ненавистными боярами-вотчинниками, угнетающими в своих уделах и вотчинах смердов, и укрепляет единое сильное государство, призванное устоять против всех внешних врагов — крымского хана, Ливонии... Ведь поддержал же Сталина в войне с немцами народ, несмотря на Большой террор! Почему же не допустить, что Василий Блаженный на площади телом своим, как Александр Матросов, заслонил Ивана Грозного от вражьей стрелы? Кто докажет, что это было не так? А кто подтвердит, что Марью Темрюковну, вместе с нерожденным чадом, как и всех остальных жен царя, не отравили заговорщики? А кто возьмет на себя смелость отрицать, что Бухарин, по наущению Троцкого, хотел убить Ленина и Сталина, а получилось — только Кирова и Горького с сыном?
В истории нет концов, нет достоверных доказательств или подтверждений. Все аргументы и свидетельства выдуманы, разноречивы, субъективны. Есть только масса предположений и догадок, не более того. И в лабиринте совершенно недоказуемых фактов и взаимоисключающих версий событий только интуиция художника находит путеводную звезду. Одну из возможных версий. Такую же придуманную, как и все остальные. Только вдохновенную, красивую, влекущую. Поэтическое “вранье” лучше обычного, бытового, а тем более научного. Художественный вымысел — это кратчайший путь к художественной правде. Фантазируя в деталях (а к деталям относились: хронология, исторические имена, отдельные события и факты, речи и поступки действующих лиц и многое другое), писатель, как ему казалось, схватывал главное содержание эпохи в целом — жестокую борьбу с врагами, мелкими и коварными, строительство грандиозного имперского государства, титанические усилия мифического царя-революционера, перестраивающего мир при свете гибельного пожара. И выясняется, что русская история на самом-то деле никуда не развивается; она неподвижно стоит на месте. Что было четыре века назад, то же осталось и почти полтысячелетия спустя. Все трагические усилия героев безрезультатны или, во всяком случае, мало результативны.
В конце пьесы Иван, глядя на пожар Москвы, декламирует: “Горит, горит третий Рим... Сказано — четвертому не быть... Горит и не сгорает, костер нетленный и огнь неугасимый... Се — правда русская, родина человекам...” Фраза, если задуматься, двусмысленная. С одной стороны, Третий Рим вечен, и его конец равносилен Апокалипсису, концу света. С другой, вечный огонь (нетленный, неугасимый) — символ молитвы, обращенной к Богу (лампада, свеча); хотя город и подожжен крымским ханом Девлет-Гиреем, он горит наподобие лампады перед ликом Божьим. С третьей стороны, горение Третьего Рима — это “правда русская”, судьба нации и государства: извечная жертвенность, катастрофичность бытия, лишь подчеркивающие избранничество. Перед этим Иван говорит Годунову, указывая на зарево пожара: “Возлюблена богом Москва, возлюблена земля Русская... В муках бытие ее, ибо суров Господь к тем, которого возлюбил... Начала ее не запомнят, и нет ей скончания, ибо русскому и невозможное возможно... Так надо отвечать, стоя передо мной в страхе... А ханов на нас много наезживало...”
Но есть и еще один, скрытый смысл монолога Ивана на фоне пожара. Горящий Рим — это метафора, явно заимствованная у Светония, — символ правления Нерона. Император поджег собственную столицу и наслаждался зрелищем горящего города с Меценатовой башни, стоя на которой в театральных одеждах пел “Крушение Трои”, аккомпанируя себе на кифаре. “Пока живу, пускай земля огнем горит!” — это высказывание приписывается Нерону на момент, когда он решился поджечь Рим с четырех концов. Иван Грозный — это русский Нерон, поддерживающий “огнь неугасимый” в Русской земле, в муках — бытие Москвы, мотивируя это тем, что возлюбил Господь русское страдание как служение Себе. Все есть в Иване Грозном: он и судия и подсудимый, великомученик и великий мучитель, и Нерон Святой Руси и ее Спаситель. Кто вправе судить его? Никто! Современные аллюзии драмы Толстого более чем прозрачны.
“События, одно трагичнее и страшнее другого, совершаются каждый день, — писал А. Толстой в 1939 году. — Каждый день мы свидетели того, как десятки тысяч людей гибнут от ужасающей несправедливости в ужасающих мучениях. Сама фантазия бессильно опускает руки перед тем, что совершается. С другой стороны, то, что происходит у нас, грандиозно и величественно и перед этим бледнеет муза фантазии”38. В этом рассуждении — весь “третий Толстой”. С одной стороны, каждый день в мирное время в муках гибнут десятки тысяч людей, и несправедливость торжествует в стране, объявившей всеобщую справедливость своим главным принципом; с другой — все то, что происходит, помимо гибели массы людей, — “грандиозно и величественно”. С одной стороны, муза фантазии бессильно опускает руки — от ужаса и бессилия перед действительностью; с другой — она бледнеет перед ее величием. Но ведь так же амбивалентны и парадоксальны, с точки зрения автора, времена Петра I и Ивана Грозного, неизменно привлекавшие писателя.
Обращаясь к истории как к миру “старинных вещей”, А. Толстой бежал от своей эпохи и тем самым возвысился над нею. Соотнеся “полную и окончательную победу социализма” в СССР с “искоренением варварства” на Руси “варварскими средствами” в Петровское время и с террористическим царствованием первого русского самодержца, централизовавшего Русь, советский писатель косвенно прочертил закономерность, очевидную лишь в свете интертекстуального подхода. Подразумевалось, что эпохи, проникнутые неограниченным деспотизмом и тиранией, похожи друг на друга, как однояйцовые близнецы. В такие трагические эпохи — ценой неисчислимых человеческих жертв, средствами жесточайшего насилия, в страшных мучениях — рождаются государства и цивилизации, свершаются поворотные события в жизни народов, решаются судьбы истории. Цена подобных “тектонических сдвигов” в развитии человечества чудовищна, но у мировой и национальной истории нет иного пути.
Тем самым Толстой не только оправдал своих коронованных героев, а вместе с тем и свое преклонение перед их неумолимой решимостью все на своем пути ломать и строить из обломков величественное, но неясное будущее, но и пропел осанну русскому самодержавию, его созидательному потенциалу, его исторической миссии, неизменной в чреде веков. Тем самым писатель эстетизировал Зло в русской истории как конечное проявление исторического Добра и поклонился страданию русского народа как предпосылке его грядущего, не осознанного им самим величия. Что же касается насмешливого характера и всегдашнего ерничества, то эти неизменные спутники толстовского творчества лишь смягчали тот ужас, от которого у его Музы опускались руки и смертельная бледность разливалась по щекам.
И что же остается сказать про “наше советское всё”? В чем сошлись в пространстве советской литературы рядовой красноармеец, “кухаркин сын” Николай Островский и бывший белоэмигрант, граф-“возвращенец” Алексей Толстой? Один обосновал “новое православие”; другой восславил “новое самодержавие”; оба возложили надежду на многострадальный народ, который все вынесет и все создаст, несмотря на испытания, вопреки потерям... Итак, православие, самодержавие и народность на новом витке исторической спирали. Или, если угодно, по-другому: коммунистическая идейность, партийность и все та же народность.
За гранью этой сакраментальной триады оказались все стилевые новации, все те поэтические изыски, которыми оба писателя художественно обставляли и расцвечивали эту бедную, голую и общеизвестную схему. С помощью этих изысков и новаций советские писатели, по мере своего таланта и творческих сил, возвышались над эпохой или убегали от нее. И часто получалось, что, убегая от своего времени — в будущее или в прошлое, — они как раз и возвышались над своей эпохой, обретая более или менее долгую жизнь в искусстве, если уж не бессмертие.
Там, в этих изысках, было и превращение личности в неодушевленное вещество, и растворение человека в исторической эпохе, и советская святость, и сочинительство истории, и дерзкое шутовство, выглядывающее из-за пошлой конъюнктуры, и многое другое, о чем шла или не шла речь в настоящей статье...
Но основой феномена, в целом называемого “советской литературой”, к которому с разных концов были причастны и Н. Островский, и А. Толстой, были все-таки простейшие идеи — коммунистическое православие и советское самодержавие, сильно смахивавшие на те, дореволюционные, “уваровские”...
И это, скажете вы, всё, что оказалось в “сухом остатке”?
Увы, всё.
Игорь Кондаков
1 Жан Б о д р и й я р, Прозрачность Зла, М., 2000, с. 144—145.
2 Аполлон Г р и г о р ь е в, Литературная критика, М., 1967, с. 166, 167.
3 См.: Игорь К о н д а к о в, “Где ангелы реют” (Русская литература ХХ века как единый текст). — “Вопросы литературы”, 2000, № 5.
4 Жан Б о д р и й я р, Соблазн, М., 2000, с. 115.
5 “Два взгляда из-за рубежа. Переводы” [Андре Ж и д, Возвращение из СССР; Лион Ф е й х т в а н г е р, Москва 1937], М., 1990, с. 100, 101.
6 А. П л а т о н о в, Павел Корчагин. — А. П л а т о н о в, Размышления читателя. Статьи, М., 1970, с. 97.
7 Т а м ж е, с. 96.
8 А. П л а т о н о в, Павел Корчагин, с. 95—96.
9 А. П л а т о н о в, Павел Корчагин, с. 106—107.
10 А. П л а т о н о в, Павел Корчагин, с. 97.
11 Выражение Ф. Достоевского в “Записках из подполья”. Слово произведено героем Достоевского не от форм склонения местоимения “все” (“всем”, “всеми”, “всему”), как можно подумать поначалу, а от словосочетания “все мы”. Полемизируя с воображаемой публикой, подпольный герой-индивидуалист заявляет: “Знаю, что вы, может быть, на меня за это рассердитесь, закричите, ногами затопаете: “Говорите, дескать, про себя одного и про ваши мизеры в подполье, а не смейте говорить: “"все мы"”. Позвольте, господа, ведь не оправдываюсь же я этим всемством. Что же собственно до меня касается, то ведь я только доводил в моей жизни до крайности то, что вы не осмеливались доводить и до половины, да еще трусость свою принимали за благоразумие, и тем утешались, обманывая сами себя”.
12 См. подробнее: Л. Т и м о ф е е в, Советская литература. Метод. Стиль. Поэтика, М., 1964, с. 254.
13 Л. А н н и н с к и й, “Как закалялась сталь” Николая Островского, изд. 3-е, М., 1988, с. 61—62.
14 Т а м ж е, с. 67.
15 См.: И. В. С т а л и н, О задачах хозяйственников. — И. В. С т а- л и н, Сочинения, т. 13. М., 1952, с. 41. Корчагин и Островский цитируют на слух речь Сталина на первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности 4 февраля 1931 года. У Сталина: “Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять”.
16 “Устав союза советских писателей СССР”. — “Первый Всесоюзный съезд советских писателей. 1934. Стенографический отчет”, М., 1934 (Репринт, М., 1990), с. 712.
17 О том, насколько распространены были подобные представления в писательской среде, свидетельствуют записи из дневника 1923—1931 годов А. Н. Толстого: “Неизбежность большевизма как переход к культуре духа... Большевизм — это желание сделать мир — чудом... Вечна вера в превращение мира в чудо” (“А. Н. Толстой о литературе и искусстве. Очерки, статьи, выступления, беседы, заметки, записные книжки, письма”, М., 1984. с. 415, 416). Далее научно-публицистические тексты А. Толстого цитируются по этому изданию в тексте статьи с указанием страниц в квадратных скобках.
18 И. В. С т а л и н, Сочинения, т. 13, с. 38. В этой сталинской речи и звучит знаменитый лозунг: “Техника в период реконструкции решает все” (с. 41).
19 Gl. S t r u v e, Soviet Literature, Oclahoma, 1951, p. 271.
20 См.: И. В. С т а л и н, Сочинения, т. 6, с. 46, 47.
21 Жан Б о д р и й я р, Забыть Фуко, СПб., 2000, с. 77—78.
22-23 Иван Б у н и н, Окаянные дни. Воспоминания. Статьи, М., 1990, с. 354. Далее ссылки на это издание даются в тексте, с указанием страниц в круглых скобках.
24 См. подробнее в кн.: Ю. М а л ь ц е в, Бунин, Frankfurt/Main — М., 1994.
25 М. Б у л г а к о в, Под пятой. Мой дневник, М., 1990, с. 34.
26 Юбилейная статья с таким названием была опубликована писателем в “Правде” 25 декабря 1939 года.
27 Е. Ю. Л и т в и н, “Что же с нами делают?..” Письма к А. Н. Толстому — депутату Верховного Совета СССР (вступ. заметка к публикации). — “Звенья”, 1992, № 1, с. 505.
28 Думается, отношение Бунина к “третьему Толстому” не особенно изменилось, если бы он прочел его рассказ о парижской встрече с ним в двух противоположных по смыслу вариантах. Один был опубликован в газете “Литературный Ленинград” в ноябре 1936 года, другой послужил черновым эскизом письма И. В. Сталину от 17 июня 1941 года о возможном возвращении писателя на родину. В первом Толстой пишет о падении таланта и пустоте творчества мастера; во втором — о полноте творческих сил Бунина и его высоком мастерстве, о влиянии бунинского реализма на советскую литературу, и ни один из этих текстов ни в чем не совпадает с воспоминаниями Бунина и друг с другом. — [См.: с. 330, 409, 472—473].
29 А. М. К р ю к о в а, Алексей Николаевич Толстой, М., 1989, с. 138. См. также: А. М. К р ю к о в а, А. Н. Толстой и русская литература. Творческая индивидуальность в литературном процессе, М., 1990, с. 83.
30 В. И. Л е н и н, Полн. собр. соч., т. 44, М., 1964, с. 249.
31 “История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. Под редакцией комиссии ЦК ВКП(б). Одобрен ЦК ВКП(б). 1938 год”, М., 1938, с. 206—207.
32 Б. М. С а р н о в, Третий Толстой. Перечитывая классику: Е. Замятин, А. Н. Толстой, А. Платонов, В. Набоков, изд. 2-е, М., 1998, с. 27, 28.
33 «История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс...», с. 227—228.
34 Жан Б о д р и й я р, Система вещей, М., 1995, с. 61, 62.
35 См.: «Воспоминания об А. Н. Толстом. Сборник», изд. 2-е, М., 1982, с. 433; В. П. С к о б е л е в, Драматургия А. Н. Толстого. — А. Н. Т о л с т о й, Пьесы, М., 1989, с. 430.
36 О. И в и н с к а я, Годы с Борисом Пастернаком. В плену времени, М., 1992, с. 146.
37 С. Б. В е с е л о в с к и й, Царь Иван Грозный в работах писателей и историков. Три статьи, М., 1999, с. 77—78. Далее ссылки на эту книгу даются в тексте статьи (в круглых скобках).
38 А. Н. Т о л с т о й, Письмо Н. В. Крандиевской от 21 марта 1939 года. — Цит. по: Ю. А. К р е с т и н с к и й, А. Н. Толстой. Жизнь и творчество (Краткий очерк), М., 1960, с. 272—273.